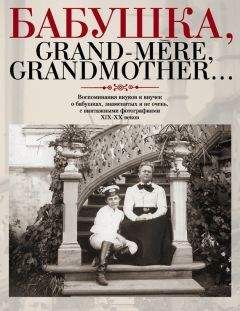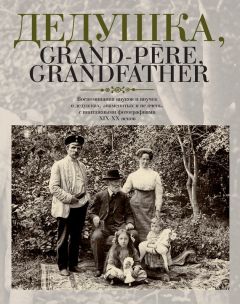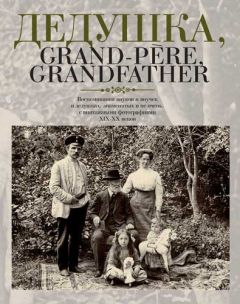Ознакомительная версия.
В молодости она любила наряжаться, считая это, вероятно, обязанностью своего высокого положения в свете. Матушка нам рассказывала, что она, старшая сестра ее и брат, Екатерина Гавриловна и Павел Гаврилович, всегда присутствовали при ее утреннем туалете, когда она причесывалась и пудрилась, сидя перед зеркалом, в розовой атласной кофте, обшитой богатыми кружевами. Бабушка слыла примерной матерью потому только, что не разъезжала беспрестанно по гостям, как другие женщины, и что старшие дети часто были при ней в гостиной; но младшие жили на антресолях с няньками и гувернантками и редко видели мать. В сущности, бабушка никем из детей не занималась и была тип старинной русской барыни со всею гордостью и всеми предрассудками своего века. Она ничего не читала, иногда рисовала или вышивала в пяльцах, но не кончала своей работы и отдавала начатые картины и шитье крепостным девушкам, которые обязаны были кончать работы своей госпожи. У дедушки была огромная дворня, дочерей и сыновей лакеев, дворецких, поваров отдавали на воспитание в пансионы, где их учили иностранным языкам, рисованию, музыке и танцам. Из них составляли труппу актеров и танцовщиц для домашнего театра и балета. Старик Иогель, которого вся Москва знала, был выписан дедушкой из Франции, чтобы устроить у него в Подмосковной балет. Дед мой был истый вельможа; он несколько лет был за границей, много читал, был умен, образован. Он занимался воспитанием трех старших детей, особенно моею матерью,
Софией Гавриловной, и на ней, как на самой даровитой, более отразилось влияние отца. К несчастью, он умер в 1803 г., когда ей было только 15 лет, но при ней осталась умная француженка, эмигрантка, которая с успехом продолжала начатое дело. Матушка много читала, что не нравилось бабушке. Она ее не любила, называла вольтерианкой, но уважала, никогда не наказывала, тогда как любимых дочерей больно секла. Часто советовалась с матушкой и поручила ей воспитание младших детей… Дети ее все боялись; особенно дочерей она строго держала. Матушка, бывши еще в девушках, поехала по приказанию бабушки в магазины; возвращаясь домой, она встретила свою приятельницу Елизавету Евгеньевну К-у. Елизавета Евгеньевна ее остановила и говорит: “Я сейчас была у maman, она позволила тебе ехать со мною в театр, садись скорее со мной, а то опоздаем”. Обрадованная неожиданным удовольствием матушка пересела в карету подруги и поехала с ней… Но, Боже мой, какая гроза ожидала ее при возвращении домой.
“Кто позволил вам ехать в театр?” – спросила разгневанная бабушка. “Вы Лизе сказали, что позволяете мне ехать”.– “Да, я Лизе сказала, а не вам; могли бы потрудиться мать спросить, но вы Вольтера начитались, мать ни во что не ставите, своим умом живете”… И оскорбительные слова полились обильным потоком. Когда бабушка сердилась на дочерей, всегда говорила им “вы”. Дочери без ее позволения не смели, даже в деревне, идти в сад, а когда получали это позволение, которое редко решались просить, должны были не иначе ходить по дорожкам как в сопровождении двух лакеев в ливреях. Понятно, что такая прогулка не привлекала молодых девушек и что такое воспитание оставило свои следы…
Бабушка редко выезжала, кажется, что в продолжение десяти лет, что я ее помню, она не более двух раз была у нас. Ее посещение было такое замечательное происшествие, что все в доме приходило в волнение, бросали уроки, какие бы ни были, и мы все четверо стояли за матушкиным креслом все время визита бабушки. А как она была хороша, принарядившись немножко; чепчик из белой блонды так шел к ее тонким, правильным чертам, улыбка ее была так приветлива, и вид так величав. Несмотря на большую семью, бабушка жила совершенно одна в собственном большом доме на Пречистенке. Все дочери были замужем, все сыновья женаты и разбрелись по России, одна матушка постоянно проводила зиму в Москве. Но все-таки родственников было так много, что по большим праздникам садилось за стол у бабушки человек двадцать и более. Я иногда видела у нее, в 30-х годах, ее дядю Петра Александровича Чебышева, дряхлого старика, замечательного тем, что занимался своею наружностью не менее Гастона Орлеанского; он каждый день завивал свои седые волосы, и так как тогда не были изобретены круглые щипцы, его можно было видеть каждое утро в папильотках. Вместо шлафрока он надевал белый женский пеньюар с розовыми бантами.
Кроме этого старика-дяди, к бабушке являлись разные старухи-приживалки, которых тогда в каждом доме было много. Она любила их рассказы и прибаутки; у нее часто бывала простая торговка, прозванная Петровна, которая играла роль шутихи, имела право садиться при бабушке, гадала на Псалтыре, раскрывая его на своей голове, толковала сны, врала всякий вздор и позволяла шутки не всегда приличные. Ей все прощалось. Петровна после смерти бабушки приносила к нам в дом свой товар, и матушка много у нее покупала; раз Петровна, не имея сдачи, осталась должна матушке гривенник. С тех пор она к нам более не показывалась. Кроме Псалтыря, я никакой книги у бабушки не видала. Оставшуюся библиотеку после дедушки она подарила моей матери. После обеда она всегда раскладывала пасьянсы.
С такой обстановкой не мудрено, что бабушке передавались на счет детей и внуков всякие нелепые сплетни, которые, доходя до матушки, ее сильно огорчали. Не стану о них говорить; они могли на мгновенье огорчить сердце матери, но время отымает у них всякое значение. Бабушка умерла холерою в 1834 году. Несмотря на многочисленную семью, никто из родных не был при ней, она скончалась на руках крепостных горничных. Никто из сыновей не пожелал оставить за собою ее дом, его продали почти задаром баронессе Розен. Лет пятнадцать после ее смерти я была в нем на балу у б-ссы Розен и не без волнения вошла в эти комнаты, где так часто бывала в детстве. Несколько гостиных остались, как были при бабушке; я забыла про картину Гамлета, про страшную экономку, я вспомнила только, как бабушка меня ласкала, как она была величественно хороша, как я глупо боялась ее, и что-то вроде угрызения совести шевельнулось в душе моей…
На этом балу я в первый раз видела моего мужа, барона В. М. Менгдена»[23].
Воспоминания о былом. Из семейной хроники
Е. А. Сабанеева[24]
Воспоминания о бабушке Екатерине Алексеевне связаны для меня с самыми дорогими воспоминаниями моего детства и, кроме того, с нравственным катехизисом, который указала мне матушка на пути жизни. С бабушкой нелегко было ладить при ее живом и вспыльчивом нраве, и матушке приходилось часто терпеть от нее незаслуженные упреки. Бабушка была мастерица делать сцены, а с батюшкой она умела ссориться и мириться по нескольку раз в день; милая моя дорогая мать была часто между двух огней и с великим терпением, тактом и кротостью мирила она обе стороны, проливая от себя такую струю света, которой никакой мрак не мог противиться. Привыкшая к мирному очагу своей родной семьи (матушка моя была урожденная княжна Оболенская), как пугалась она сначала волнениями той среды, в которую попала в доме супруга! Надо удивляться, с каким мужеством она боролась с враждебными ей нравственными стихиями и как успешно восторжествовала над ними. Бабушка впоследствии отвыкла от мысли, чтоб матушка могла чем-нибудь против нее провиниться или даже ошибиться, и отношения между этими двумя женщинами были полны такого доверия друг к другу, что обе слились в одну душу и действовали в одном смысле на пользу семьи и детей. Екатерина Алексеевна Прончищева была строительницей нового храма в селе Богимове; он выстроен частью иждивением прадеда Алексея Ионовича, частью ее. Когда Богимовскую усадьбу перенесли на другой берег Мышинги, то испросили дозволения и церковь строить на противоложном берегу от старой деревянной церкви. Это стоило бабушке немало хлопот. Она с великим усердием занималась этим великим делом, очень удачно окончила его, посвятив на него несколько лет своей жизни. Новая Богимовская церковь была окончена в царствование Императора Николая I. Главный придел был во имя Успения Божией Матери; у нас этот день в семье было два праздника – храмовый и рождение моей матери 15-го августа.
Ознакомительная версия.