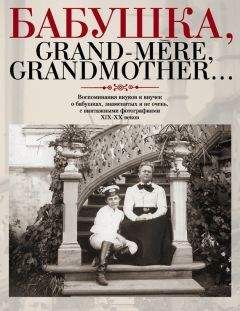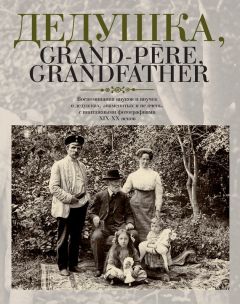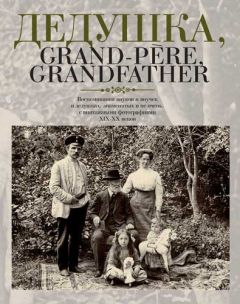Ознакомительная версия.
Храм Богимовский был хорошей архитектуры; в нем было много соразмерности, окна тоже давали хорошее освещение, что в старинных сельских церквах редко встречалось; живопись была прекрасная; всем нравилась наша церковь, и соседи охотно ее посещали. Она стояла недалеко от нашей усадьбы, по дороге в бабушкино имение. От дому почти до самой церкви была широкая липовая аллея. Был Великий пост на исходе – кажется, Вербная неделя; бабушка прислала сказать, что будет к нам, ибо желает поговеть. Сейчас же приказано было приготовить для нее комнаты. Для нас, детей, ее пребывание в доме соединялось с вакацией, потому что матушка, которая сама давала нам уроки, при бабушке не имела времени нами заниматься. Я была старшая в семье, а мне было в то время лет семь.
Бабушку сопровождал всегда большой штат прислуги; ездила она в четырехместной карете в шесть лошадей с выносными, форейтором и двумя лакеями на запятках. В карете – масса подушек; кроме бабушки, сидели в ней: ее компаньонка, горничная Лена и две собачки, Мирза и Журик. И вот мы ожидаем бабушку. Как только ее экипаж покажется по дороге мимо церкви, так буфетчик Сергей Николаевич войдет в батюшкин кабинет, остановится в дверях и возвестит, что барыня к нам жалует, – мы к окнам. Карета въехала в ворота большого двора, и мы бежим встречать в переднюю нашу дорогую гостью. Дверь отворяется, входит бабушка, укутанная в шубу, в большом атласном капоре фиолетового цвета; ее ведут под руки, и Лена расстегивает на ходу ее шубу, а лакей принимает ее на свои руки; бабушка садится на диван, и с нее снимают теплые белые лохматые сапоги, осоюзенные белым сафьяном. Мы должны все время смирно стоять; затем бабушка проходит в батюшкин кабинет, где ее усаживают на диван. Мы, между тем, приняли от лакея ее двух собачек и несем их на руках за бабушкой, что составляет для нас большое удовольствие; но мы отнюдь не должны при этом забывать, что с бабушкой следует поздороваться, а этого никак нельзя сделать, пока она не снимет капора и бесчисленного множества платочков и косыночек, которые на нее накутаны. Мы стоим против нее и ожидаем. Наконец снят последний шарфик, и бабушка осталась в одних волосах. Тогда ей было лет под семьдесят, а в ее темно-русых косах, которые она носила, закладывая их по-детски вокруг головы, не было еще седых волос. Эти глянцевитые темные волосы гладко лежали над ее невысоким лбом и немного вились над висками. Говорили, что она была очень хороша в молодости, высока и стройна. Глаза ее были карие, очертание лица мягкое, черты тоже мягкие, нос породистый, прямой, без горбика, а ноздри имели способность раздуваться под влиянием душевного волнения; выражение ее лица так часто менялось, и довольно полные губы раздувались в гневе, выражая так откровенно, что она сердится. Зато при улыбке углы ее рта подымались вверх особенно приятно, придавая ее лицу сдержанно-лукавое выражение. Игра ее лица производила на меня всегда глубокое впечатление: так вот и догадаешься, чего она хочет, и что ей нравится, и что ей не по нутру. Я заметила, что скрывать свои чувства она не умела, да, кажется, и не могла, оттого и была часто резка. Если ей приходилось принять une mine de circon-stance, хотя бы, например, в гостиной, то выходило смешно. Подчиняться моде или этикету она никогда не могла: всегда утрировала оборки своих чепцов, цвета материй на платьях и вообще мало обращала внимания на впечатление, которое производила на других.
Но пора вернуться к моему повествованию. Итак, когда последний шарфик снят, то Лена уносит все атрибуты зимнего кутанья и подает бабушке чепец именно с преширокой оборкой и бридами из газовых лент. Когда он уже на голове у бабушки, мы чинно подходили к ней к руке. В это время показывается няня в дверях кабинета; она несет на серебряном подносе весь чайный прибор и ставит его на круглый стол против бабушки, которая после самого краткого путешествия любила кушать чай. Бабушка Екатерина Алексеевна была большая рукодельница: из ее рук выходили замечательно изящные работы. Она много вышивала для нашего храма. Помню по серебряному глазету воздухи, которые обновили на храмовой наш праздник. По канве золотом она вышивала без очков до глубокой старости. По поводу вязанья шерстями я слышала от нее следующие воспоминания из ее молодости.
«Теперь, – говорила она, – берлинская и английская шерсть такая обыкновенная вещь, – ею хоть пруд пруди; в мое же время она была редкостью; ее употребляли только большие барыни. В высших сферах общества было доступно вышивать ковры; у нас же в деревне и понятия о том не имели. Я смолоду была охотница до работ, но шерсти купить и подумать не смела: батюшка так бы прогневался, если б я осмелилась заикнуться о покупки такого ценного товара. У нас везде все было домашнее: шерстяные чулки мы носили, конечно, из домашней шерсти, не говоря уже о белье – все из домашнего холста. И столовое белье то же самое. У нас-то все матушкины ярославские мужички привозили: это входило в их оброк. Но и в Богимове отлично пряли и ткали; мы с сестрами носили по будням платья из домашней холстинки, по воскресеньям только ситцевые. Я была меньшая из сестер, и мне первое белое канифасовое платье сшили, когда я была взрослой девицей лет 18. Так вот насчет шерсти я стала рассказывать. Гостила я одно время у Кашкиных в Прысках (из Оптиной пустыни к ним заезжала) и видела у их гувернантки прелестную подушку, вышитую берлинскою шерстью, узор-то я перерисовала, и канвы мне подарили, за малым дело оставалось: нет у меня шерсти. Как тут быть? Тогда добрые Кондыревы вошли в мое спасенье: у них были шленские овцы, так они велели начесать шерсти из душек (это та шерсть, что на груди и под шеей у овец, так называется); эту шерсть вымыли и привезли мне. У нас Пелагея хорошо и ровно пряла, – и вышла мягкая, довольно хорошая шерсть, но белая вся, а узор без теней вышивать нельзя. Что же вы думали? – я сама покрасила шерсть, и вышло очень недурно, так что я вышила ковер. Когда-нибудь я вам его покажу».
Еще по поводу своей страсти к цветам бабушка рассказывала следующее. «Это была всегда такая оказия – моя страсть к цветам, – говорила она, – бывало, только в людях и полюбуешься ими, дома и подумать не смей посадить цветочков; ни смородины, ни малины у нас не было. Батюшка ничего такого терпеть не мог, называл все это пустяковиной. Разве что подсолнечник на огороде допускался; бузина где-то подле кухни разрослась – и ту велел вырубить. Когда, однако, после кончины брата батюшка заболел и все хозяйство перешло на мои руки, то и пришел ко мне раз приказчик, да и говорит: “Осмелюсь доложить вашей милости: под скотным двором местечко пустует, а земля хорошая, – не благоволите ли ее мне под огород пожаловать? Мы с женой сами ее обработаем, горошку да бобков насадим”. Я подумала, подумала, да и позволила и велела то местечко плетнем забрать. Да и сама стала там садить: то смородины, то малинки; цветов развела, розы были, левкой, только души нет, бывало: боишься, как бы батюшка не сведал!»
Ознакомительная версия.