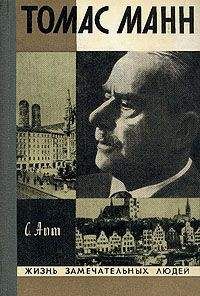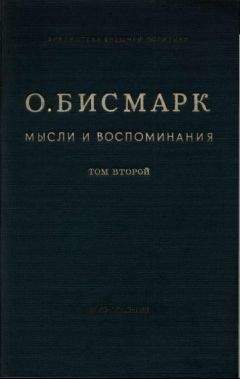После переезда в Америку его духовная связь с Европой заставляла особенно дорожить всеми видами активной, практической связи с ней, и, покуда существовала возможность издавать в Цюрихе журнал «Мера и ценность», он продолжал участвовать в его издании заочно — рекомендациями и советами, посылая рукописи и находя субсидентов. Журнал этот, руководимый средним сыном писателя Голо, который возглавил редакцию за несколько недель до начала войны, прекратил свое существование лишь летом 1940 года, когда Голо, решив вступить добровольцем во французскую армию, покинул Цюрих и уехал во Францию, где как немец вскоре был интернирован режимом Виши на юге, откуда вместе с Генрихом Манном и Лионом Фейхтвангером бежал через испанскую границу в Соединенные Штаты. О «брате и сыне» не было известий довольно долго...
В первые же месяцы жизни в Америке у Томаса Манна возник проект установления связи между, как он выразился, «немцами внутри страны и нами, представителями духовной Германии за рубежом». Считая ввиду «новой опасности appeasement», что «решение должно быть и будет принято в Германии», и заручившись согласием некоего «Комитета американских друзей» финансировать его план, он обратился к Генриху Манну, Францу Верфелю, Людвигу Ренну, Бруно Франку, Рене Шикеле, Максу Рейнгардту, Стефану Цвейгу и другим «писателям, ученым, богословам и работникам искусств» с предложением войти в число авторов серии брошюр, «написанных представителями немецкой мысли для немцев», брошюр, которые бы разными способами распространялись в Германии. Начавшаяся война не позволила реализовать этот проект, но она же открыла ему, Томасу Манну, новый канал связи с далекой и еще более отрезанной родиной.
Осенью 1940 года он по предложению британского радио стал ежемесячно выступать с короткими, сперва пяти-, а потом восьмиминутными обращениями к немецким слушателям. Поначалу он передавал тексты своих речей в Лондон, где их читал диктор, по телеграфу, но вскоре — цитируем предисловие автора к сборнику «Немецкие слушатели!», вышедшему в 1942 году в Стокгольме, где находилось тогда издательство «Берман—Фишер», — «вскоре, по моей инициативе, прибегли к другому, более, правда, затруднительному, но зато и более прямому и потому более располагающему методу»: голос Томаса Манна записывался в Лос-Анджелесе на пленку, которую затем доставляли авиапочтой в Нью-Йорк, после чего звукозапись передавали по телефону в Лондон, откуда она и уходила в эфир. Некоторые из его речей — с октября 1940 по май 1945 года он выступил по радио около шестидесяти раз, передавая гонорар в фонд войны с Гитлером, — достигали Германии и в виде разбрасываемых с самолетов листовок. Кстати сказать, в 1941—1942 годах отрывки из радиовыступлений Томаса Манна появлялись в печати и по-русски — в московском журнале «Интернациональная литература».
Он комментировал мировые события, выражал веру в победу антигитлеровской коалиции, напоминал соотечественникам о светлых, человеколюбивых традициях немецкой культуры. Он обращался к самой широкой аудитории и говорил, избегая свойственных его стилю длинных, насыщенных иронией периодов, короткими фразами, обиходно-простым языком. Но не было в этих речах, которые произносил в условиях войны с Германией оклеветанный на своей родине, ненавидящий нынешних ее властителей и ценящий гостеприимство, оказанное ему англосаксами, немец, — не было в них демагогического упрощения вопросов, давно составлявших ядро его размышлений о Германии и о буржуазном Западе. «Я признаю, — говорил он по радио в августе 1941 года, — что явление, именуемое национал-социализмом, имеет в немецкой жизни глубокие корни. Это злокачественное перерождение идей, которые всегда несли в себе зародыш ужасной гибели, но отнюдь не были чужды старой, доброй Германии, культуры и просвещения». В этих и подобных им трезвых, критических и самокритических словах человека, когда-то написавшего книгу под названием «Размышления аполитичного», чувство собственной его причастности к немецкой судьбе выразилось убедительнее и тактичнее, чем оно могло бы выразиться в каких-либо патетических фразах о любви к родине.
Обращаясь к немецким слушателям, он неизменно заявлял, что верит в поражение Гитлера. Он заявлял это вполне искренне, он и в самом деле не сомневался в разгроме Германии. Сомнения внушала ему способность западных демократий к самообновлению, их готовность уничтожить самые корни фашизма, их добрая воля в отношениях с восточным союзником. И об этих своих сомнениях, опять-таки с максимальным тактом, он сказал еще при жизни Рузвельта, еще в 1942 году, когда фашистские войска стояли на Волге и на Кавказе, а он, Томас Манн, формально считался в Америке enemy aliens64, — сказал хоть и не по радио, но по поводу своих выступлений по радио, в уже цитированном нами чуть выше предисловии к стокгольмскому изданию двадцати пяти, к тому времени произнесенных речей: «Во что я нерушимо верю — это в то, что Гитлер не может выиграть свою войну, — вера эта скорее метафизическая и моральная, чем обоснованная военными соображениями, и везде, где я выражаю ее на нижеследующих страницах, она совершенно непритворна. Но я далек от того, чтобы поддержать этим опасное представление, будто победа united nations65 — дело само собой разумеющееся и обеспеченное и будто можно, полагаясь на эту само собой разумеющуюся обеспеченность, позволить себе не только любые ошибки, но и любой недостаток воли, любую полуоткрытость и любую «политическую» сдержанность в отношении своих союзников и мира, которым должна увенчаться борьба. Ничего нельзя себе позволять, даже самого малого, после всего, что напозволяли себе в прошлом. Ведь этой войны можно было избежать, и самый факт, что она разразилась, есть бремя на нашей совести».
Что касается внезапного воздушного налета японцев на тихоокеанскую морскую базу Пирл-Харбор в декабре 1941 года и вступления Соединенных Штатов во вторую мировую войну, то эти события не очень-то удивили и, уж во всяком случае, не потрясли нашего героя. «Страдаю ли я? Ах, дорогой друг, — отвечал он на этот вопрос американки Агнес Э. Мейер, — я страдал прежде, когда было еще бестактностью выказывать свои страдания. Теперь мне скорее лучше на душе... К тому же война неделима, и свалившаяся на нас неожиданность не может затмить подвигов русских». Но события эти прибавили к заботам дома, давно уже «превратившегося в спасательное учреждение» для гонимых и преследуемых, еще одну — о положении enemy aliens, к которым причисляли теперь в Соединенных Штатах всех немцев, итальянцев, японцев независимо от их отношений с режимами соответствующих государств и от обстоятельств, приведших этих европейцев и азиатов на американскую землю. «Маленькие ограничения, распространяющиеся на меня, — писал Томас Манн в январе 1942 года, — не стоят пока и упоминания. Огнестрельное оружие и взрывчатые вещества мне, по натуре моей, крайне несимпатичны, наш коротковолновый приемник все равно не работает, а для своих lectures, безусловно представляющий собой defense work66, я готов ходатайствовать от случая к случаю о разрешении на выезд. Вопрос только, кончится ли на том... Иногда вспоминаешь, что воюешь с Гитлером как-никак дольше, чем Америка...» Дело шло для него не о личных неудобствах: он, Томас Манн, или, например, прославленный итальянский дирижер Тосканини, который, даже если сбор от его концертов поступал в фонд обороны, должен был за 8 дней до поездки из одного американского города в другой подавать ходатайство об ее разрешении, или, например, Альберт Эйнштейн, могли бы, вероятно, без особого труда добиться для себя исключения из нововведенных правил. И не просто о судьбе эмигрантов тревожился наш герой, обращаясь по поводу enemy aliens к американским властям и посылая вместе с Тосканини, Эйнштейном и другими знаменитыми эмигрантами телеграмму Рузвельту, призывавшую президента «провести ясную и практическую черту» между «потенциальными врагами американской демократии», с одной стороны, и «жертвами и заклятыми врагами фашизма», с другой. О том, что действительно внушало ему тревогу, он откровенно заявил в так называемом «Комитете Толана», куда его — в марте 1942 года — пригласили для процедуры, предваряющей переход в американское подданство: «Я вовсе не думаю только об эмигрантах, — сказал он там, — я думаю о боевом духе этой страны. Передо мной ужасный пример Франции. Нация, которой доставляют удовольствие победы над ближайшими врагами ее врагов, вряд ли находится в наилучшем психологическом состоянии для того, чтобы этих врагов победить».