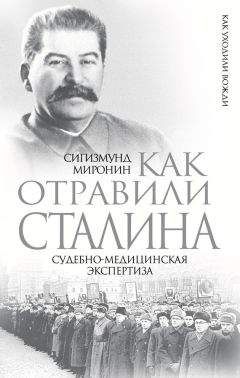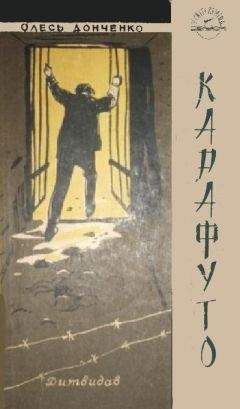– Гуляй до папиного крыльца, сибиряк, бо опять натряхаю пыль с ушей…
– Не натряхай, смотри, себе чего в штаны, – говорил я, но рядом не задерживался. А потом утешал себя, что все это глупо, и что в таком возрасте смешно выяснять отношения с помощью кулаков. Не пятиклассники же!
К счастью, скоро Фимка уехал в пионерский лагерь.
А Боря был скучный и тихий мальчик, то и дело окликаемый со двора своей мамой:
– Бора, иди уже домой, почитай лучше книжку или помоги маме вынимать косточки з вишен!
И Боря шел. О подземелье в крепости, о плавании на лодке по Березине или даже о простом купанье с ним и речь заводить не стоило.
С отцом я виделся главным образом по вечерам. Днем он уходил в институт, где шли приемные экзамены, или сидел над своей диссертацией, а к концу дня уставал. Полсотни лет уже было все-таки, да и здоровье так себе.
О всяких важных вещах: о прошлой жизни, о семейных делах, о моих планах на будущее, о политике и о любимых книгах – мы много разговаривали в первые дни после встречи, еще в Москве. А теперь… Вроде все уже сказано-пересказано, чего воду в ступе толочь? А о пустяках болтать не получалось.
Я ощущал в глубине души скованность, сумрачную неловкость. И отец об этом, кажется, догадывался.
Была у меня и обида, оставившая след.
Это случилось в Москве.
Мы жили в общежитии белорусского полпредства, в комнате на четырех человек. Одним из соседей оказался круглый рослый дядька с холеным лицом и седоватым ёжиком. Этакий чин из какого-то республиканского треста. Даже странно было, что столь сановная фигура проживает в скромном общежитии, а не в гостиничном номере.
Уезжал из Москвы этот “чин” раньше нас. Упаковывая пузатый желтый чемодан, радовался, что сумел купить редкую цветную фотопленку. Показывал нам, хвастался, довольно вертел в пальцах, прежде чем уложил в чемоданную утробу. Потом спохватился, что надо еще купить в дорогу колбасу, и ушел.
Ушел и отец – на какой-то расположенный неподалеку книжный склад, где можно было раздобыть новую книгу о новгородских берестяных грамотах.
Я остался один, лежал на кровати, читал в свежем “Огоньке”, как храбрые северно-корейские воины громят американских агрессоров.
“Чин” явился. С ним пришел и другой наш сосед – скромный, запыленный какой-то мужичок, председатель колхоза из-под Гомеля. “Чин” стал заталкивать в чемодан колбасу. И вдруг:
– А где же пленка? А? – И оглянулся.
Председатель ничего не понял. Я продолжал читать “Огонек”. Какое мне дело до забот этого бюрократа? Я его с первого взгляда невзлюбил.
Он подошел, двумя пальцами отодвинул от моего лица журнал.
– Ты не видел мою фотопленку?
– Вы же положили ее в чемодан.
– Ну да, ну да. А теперь ее там нет.
– А я-то при чем?
– Но ты же в и д е л, как я ее туда положил!
– Ну и что? – Я сел на кровати.
– Может быть, ты и потом в и д е л, куда она девалась? Ты поищи.
– Вы что! Думаете, это я ее взял?!
– Я ничего не думаю. Но ты п о и щ и.
– Да зачем она мне! – Я почувствовал, какой у меня тонкий, невольно виноватый голос. – У меня и аппарата нет! Я вообще этим делом не занимаюсь.
– Но все-таки п о и щ и!
– Идите вы знаете куда! – рявкнул я, собрав силы.
– А я вот за ухо!
– Только попробуйте!
– Может, мне в милицию пойти?
– Идите хоть в… – Я сдержался все-таки. Председатель сидел на своей кровати и сочувственно смотрел на меня очень синими глазами, окруженными сеткой морщинок. “Чин” повернулся ко мне обширным задом, начал остервенело убирать с кровати постель, чтобы сдать кастелянше. Рванул из-под чемодана одеяло… Зеленая коробочка скатилась на половицы.
– Да вот твоя пленка, – выдохнул председатель. – Сам, небось, мимо чемодана сунул.
– Не знаю, не знаю… Главное, что нашлась, – он обрадованно схватил пленку.
– Другой бы извинился, – сказал я сановному заду.
– За что? – Он даже не обернулся. – За то, что она в кровати нашлась?
– Может, вы думаете, что я стащил, а потом подбросил? – осенило меня.
– Не знаю, не знаю…
Я понял, что сейчас разревусь, как первоклассник. И чтобы не случилось такого позора, сказал:
– Шкура буржуйская!
Одними губами сказал. Но, кажется, он услышал. Оглянулся, налился помидорной краской… Тут как раз вошел отец.
– Папа! Этот вот… гражданин заявил, будто я украл у него фотопленку! И будто потом подбросил!
– Да ничего такого! Помилуйте! Просто просил мальчика помочь поискать!
– А кто говорил: в милицию?!
Если бы отец хоть что-то сказал “чину”!.. Пусть хоть как-то отругал его своим интеллигентным тенорком!.. Но он только растерянно посмотрел на всех по очереди, пожал плечами. И… протянул мне книгу:
– Смотри, какую редкость я раздобыл.
А потом… потом он, как ни в чем не бывало, попрощался с “чином”, когда тот отправился на вокзал.
– Зачем ты ему руку-то подал? – возмутился я, когда мы остались вдвоем (председатель тихо ушел).
– Ну а как же? Есть правила вежливости…
– Он же гад!
– Ну как ты смеешь так говорить про взрослого!
– Сразу видно, что ты учитель, – горько сказал я.
– И… что здесь плохого? – Отец как-то обмяк.
– То, что любой учитель считает: всякий взрослый всегда прав, а школьник – никогда.
– Ну уж, не преувеличивай, – не совсем натурально засмеялся отец. – Вставай-ка. Мы ведь хотели пойти в Третьяковскую галерею…
Вот и все. Ну и ладно! Это бы я простил и забыл. Но… Уже после, прокручивая в памяти тот случай, я вдруг понял: отец думал, что я и в п р а в д у мог стащить, а потом подбросить пленку. По крайней мере, полностью такой возможности он не исключал. И потому в искренность моей обиды поверил не до конца.
А в самом деле, что он знал про своего почти незнакомого сына?
Последний раз перед этой встречей он видел меня лопоухим третьеклассником, да и то недолго, почти мельком. А сейчас приехал тощий подросток с колючим нравом, с привычкой обо всем судить ершисто и по-своему. Кто он, этот четырнадцатилетний лохматый мальчишка? Что у него на уме? Какие привычки, какие желания? Не слишком ли мало интеллигентности, не слишком ли заметны уличные замашки? А это самомнение и самоуверенность высказываний о незыблемых истинах! Лев Толстой, видите ли, скучный писатель! “Вечера на хуторе” Гоголя в сто раз интереснее, чем “Война и мир”. А еще лучше – Марк Твен и Джек Лондон! А из русских писателей самый хороший – Паустовский!.. Как это не классик? Классичнее всех!
И это сын преподавателя русской словесности!