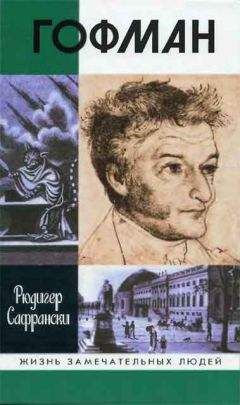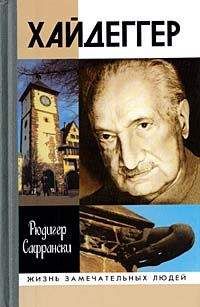В письме Гиппелю, лояльно настроенному по отношению к государству, Гофман не решился развернуть проказливую, скрытую политическую сатиру на царившую в стране косность, которую он не утаил в письме Адольфу Вагнеру в Лейпциг от 25 ноября 1817 года, присовокупив ее к описанию пожара: «Я мог бы рассказать вам, как во время пожара в театре… пошатнулся государственный кредит, ибо, когда загорелась кладовая и 5 тысяч париков взлетели на воздух, парик Унцельмана из „Сельского цирюльника“ парил над зданием банка, словно опасный огненный метеор, — впрочем… оба мы, я и государство, спасены. Я — благодаря силе трех брандспойтов… государство — благодаря отважному гвардейскому егерю на Таубенштрассе, который… метко сбил упомянутое чудовище из ружья. Смертельно раненное, свистя и шипя, оно грохнулось в нужник питейного заведения Шонерта. После этого облигации государственного займа немедленно поднялись. Разве это не материал для эпоса?»
Пожар, быть может, и содействовал подъему государственных ценных бумаг, но безусловно остановил победное шествие «Ундины». Брюль, правда, пообещал восстановить оперу после открытия нового здания театра, однако в 1821 году, когда строительство завершилось, этот вопрос не поднимался. Причиной тому послужил не Брюль. Он по-прежнему проявлял заинтересованность в возобновлении оперы, хотя к тому времени из-за полемики по поводу Спонтини Гофман и оказался, так сказать, в «противоположном лагере». Зато Фуке проявил чрезмерную медлительность во внесении незначительных переработок, на которых настаивал Брюль и которые готов был сделать Гофман. Осенью 1816 года Фуке в своем безграничном раболепии готов был по желанию его королевского величества вносить даже весьма существенные изменения в структуру сказки. Так, король пожелал, чтобы финал «Ундины» по возможности был примиряющим: Ундина не возвращается в воду, а Хульдбранд не остается с разбитым сердцем, но оба возносятся на небо. «Если рыцарь не обретает возлюбленную и по ту сторону добра и зла, то в чем же тогда значение и смысл всего сочинения?» — спросил, по словам Фуке, король и затем продолжал: «Да, я радовался со слезами на глазах, понимая, насколько любая эстетика стоит ниже устремленного в вечность высокого и глубокого личного чувства, и отныне мне хотелось при любой постановке „Ундины“ видеть любящих только живыми, бок о бок сидящими на троне». Теперь же Фуке решительно упрямился переделкам, и причиной тому служило наступившее отчуждение между ним и Гофманом.
Если до 1815 года Фуке со своими трескучими рыцарскими романами был одним из самых читаемых авторов, то ныне он утратил прежнюю популярность. Гофман же был теперь новым светилом на небосводе карманных изданий для дам, и Фуке реагировал на это с едва сдерживаемым ревнивым негодованием. К тому же проявились и политические разногласия. Фуке безоговорочно приветствовал «преследование демагогов», начавшееся после Карлсбадских постановлений 1819 года и вызвавшее, как мы еще увидим, либеральный протест со стороны Гофмана. Фуке, этот странный человек, даже предположил, что коварство «демагогов» лишило его литературной славы.
Таким образом, плодотворное сотрудничество с Фуке теперь было затруднительно для Гофмана. И тем не менее он до конца своих дней прилагал усилия ради новой постановки «Ундины». Уже лежа на смертном одре, он просил дать ему партитуру, чтобы внести в нее исправления.
Глава двадцать вторая
БЕРЛИНСКИЕ ДНИ И НОЧИ
Если вспомнить, с каким нетерпением Гофман ждал на протяжении многих лет, начиная с 1812 года, представления своей оперы, на какие перемены в своей жизни надеялся в случае успеха ее представления в Национальном театре, то покажется удивительным его вскоре наступившее отрезвление, несмотря даже на его успех в качестве композитора. С юных лет он мечтал о великом музыкальном произведении. Но стала ли таковым его «Ундина»?
Еще оставался избыток желаний и неисполнившихся надежд, однако сил пуститься в плавание к новым берегам — во всяком случае, в первое время — не было. Правда, Минне Дёрфер, своей бывшей невесте, которой он впервые за много лет послал весточку, Гофман писал 8 ноября 1816 года с гордостью: «В ближайшее время опера попытает счастья также и на сценах Вены, Праги, Штутгарта и Мюнхена. Хочется повторить вслед за Гёте: „Чего желаешь в юности, того вдоволь имеешь в старости“». Гофман преувеличивал: того, что желал, он имел далеко не «вдоволь». Стоит лишь сравнить эти хвастливые слова с его пессимистичным по тону письмом композитору И. П. Шмидту, в прошлом судебному асессору, а недавно получившему столь вожделенную для Гофмана должность экспедитора, оставлявшую много свободного времени для занятий искусством. «Я прошу не относить меня к числу популярных композиторов, поскольку мне слишком недостает практики, чтобы написать еще многое. Вполне вероятно, что „Ундина“ окажется первой и последней моей оперой, поставленной в здешнем театре» (8 сентября 1816).
И все же летом 1817 года Гофман еще раз замахнулся на создание оперы, на этот раз по Кальдерону. Контесса даже написал либретто, однако дальше одной арии и неоднократно повторявшихся заверений, что он уже держит в голове все произведение, дело не пошло. Да, «Ундина» останется его «первой и последней» оперой, представленной в Берлине, и он это сам понимал.
К ощущению того, что он как композитор достиг в «Ундине» предела своих возможностей, добавилась и пессимистическая оценка своей писательской карьеры. 30 августа 1816 года он признавался в письме Гиппелю: «Я больше не напишу ничего подобного „Золотому горшку“! Это надо ясно осознать и понапрасну не тешить себя иллюзиями!» (Однако тут он ошибался: «Принцесса Брамбилла» станет еще одним его безусловным шедевром!)
Без иллюзий он смотрит и на свою карьеру чиновника: теперь он — советник апелляционного суда, имеющий твердый оклад и пользующийся уважением за свои деловые качества, так что иногда ему поручают даже замещать председателя суда. От этого места, обеспечивающего гарантированный заработок и уважение в обществе, он уже не может и не хочет отказываться: Гофманы занимают престижную квартиру на Жандармском рынке, тратят немалые деньги на пирушки в заведении «Люггер и Вегнер» и обеды в ресторане «Дитрих», дорого одеваются. Вполне вероятно также, что Гофман проигрывает деньги за карточным столом: среди участников застолий в «Люггере и Вегнере» были известные в городе картежники (прежде всего — д'Эльпон и Лютвиц).
И все же Гофман смотрел на свою чиновничью карьеру и литературное сочинительство на потребу рынка как на золотые цепи, которые сковывают его. И он не перестает «бряцать» ими перед окружающими его людьми, перед публикой. Его талант развлекать присутствующих обеспечивает ему аудиторию. Теперь, когда он стал знаменитым писателем, сочинил оперу, с такой пышностью поставленную на сцене, когда он к тому же занимает почтенную должность советника апелляционного суда, нет отбоя от желающих заполучить его в качестве украшения своих салонов. Кого только не было среди его знакомых: Вильгельм фон Гумбольдт, Цельтер, Пюклер, Август фон Гёте[53]. Клеменс Брентано вовлек его в свой дружеский кружок, душой которого были братья Герлахи. Там не принято было хорошо отзываться о Фуке, так что Гофман оказался в затруднительном положении. Брентано как-то раз совершенно открыто дал понять Фуке, что его роман «Сигурд» и вправду «не стоит ровным счетом ничего», потом направил оскорбленному Фуке письмо с извинениями, однако ироничный тон этого письма еще больше испортил дело. С тех пор Брентано не упускал случая разыграть бравого рыцаря. Однажды он задумал по пути на вечеринку заехать за Фуке целой компанией, наряженной средневековыми рыцарями, причем на Гофмана возлагалась деликатная обязанность пригласить беднягу. Гофман, оказавшись между двух огней (впрочем, это было его любимое положение), предупредил своего либреттиста о розыгрыше, правда, тоже не без иронии. Он охотно принимал участие в любой игре.