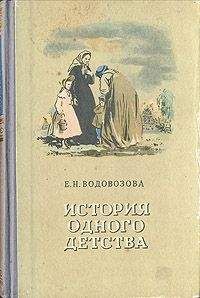Накануне следующего занятия весь класс твердил: «Ты не плачь, береза, бедная, не сетуй…».
Я осторожно про себя или вполголоса тоже повторяла строки заданного стихотворения. Слова оказались слишком нежными для произношения вслух.
«Кто хочет прочесть стихотворение?» – после некоторой паузы спросил учитель, войдя в класс на следующий урок и стоя на прежнем месте. Класс напряженно молчал. Он повторил вопрос. Класс остался тих и недвижим. Молодой человек стал теребить бородку. Я нечаянно сделала какое-то легкое движение, отнюдь не означавшее желание выступить. «Вы хотите? – поспешно обратился учитель ко мне и сделал шаг в мою сторону. – Пожалуйста, прочтите…» Я в замешательстве встала. «Острою секирой, – услышала я дрожь своего голоса, – ранена береза. По коре сребристой, – вела я дальше, держа голос на одной ноте, с трудом от волнения выговаривая слова, – покатились слезы… Лишь больное сердце не залечит раны…» – закончила я.
В классе еще дрожал звук негромкого напряженного голоса…
«Вы не работали над стихотворением», – сказал учитель, глядя мне в лицо серьезно и печально. Что-то больно дрогнуло в сердце. Я молча села. «Я не работала?» – думала я грустно. Я работала. Я с любовью заучила коротенькие строчки чужого стихотворения. Мне оно нравилось. Оно казалось необычайно тонким и будило в душе грустное нежное чувство. Но чувство, очевидно, оставалось внутри и от волнения не передавалось в звучании голоса. Как же надо работать? Что нужно делать?
После меня учитель вызвал еще кого-то. Затем стал говорить о стихе, о музыке стиха. И он обещал в ближайшее время принести на урок скрипку.
Мы очень ждали этого дня. Но больше новый учитель не пришел. Мы больше его не видели, ни его, ни скрипки. Почему? Это осталось для нас загадкой. Это осталось одним незавершенным, но светлым эпизодом в нашей однообразной институтской жизни. Но и теперь, когда мне на уста приходят строки стихотворения А. К. Толстого о раненой березе, я неизбежно вспоминаю о молодом человеке, желавшем раскрыть нам тайну единства музыки и поэзии.
«Обожание»Специфической особенностью институтского быта считается «обожание». Обычно обожание изображают как явление уродливое, нелепое, смешное, искусственное и вместе с тем широко распространенное в институтской среде. В мое время в нашем институте «обожание» было явлением совсем незаметным. Я бы даже сказала, его не было. Но я «обожала».
Сначала я познакомилась с девочкой старше меня на один класс – Марусей Синицкой. Я встречала ее в рекреационном зале, подходила к ней, и мы обменивались несколькими словами. Мне нравилось ее правильное овальное личико и синие глаза. Мы были на «вы», я относилась к ней с некоторым почтением, как к старшей, но нас, смею думать, связывала взаимная симпатия. Почему это называлось «обожанием»? Просто здесь сказывалась жажда дружеского общения, Оли в институте тогда еще не было.
Я убеждена, что «обожание» имеет место в среде любого учебного заведения. В институте оно усиливалось замкнутостью жизни и бедностью серьезных внешних впечатлений. По опыту собственной восьмилетней работы в средней школе знаю, что и советскую школу не миновала влюбленность юных в старших, трогающих молодое воображение.
«Мне душно, мне тесно в стенах института…»Я не знаю, многие ли из моих одноклассниц писали дневники. Это было делом интимным. Но знаю, для некоторых из нас дневники составляли важную сторону их душевной жизни. Моя подруга Оля писала дневник не часто и довольно скупо. Я не могла и помыслить коснуться ее дневниковой тетради.
Одной из самых значительных, самых важных черт моего пребывания в институте стала моя дружба с Олей Феттер. Это не была обычная поверхностная или сентиментальная «институтская» дружба. Это была настоящая глубокая органическая душевная связь, сердечная привязанность друг к другу, возникшая и выросшая сама собой, и которая, как мне кажется, неудачно выражается словом «дружба». Если бы у меня не было близости с этой умной, одаренной девочкой, моей любви к ней и ее любви ко мне, моя жизнь в институте была бы гораздо более пуста, скудна, тосклива и даже тяжела. Наша дружба обогащала нас, делала полнее, значительнее, радостнее, счастливее наше существование.
Оля была старше меня на два года, была девочкой другой среды и судьбы. Она была, вероятно, одаренней меня, разносторонней как личность. Но мы дружили «на равных», были совершенно равны в наших отношениях. Мы никогда не ссорились. У нас никогда не было ни малейших столкновений или недоразумений. Наша дружба включала в себя глубокое уважение и абсолютное доверие друг к другу. Вместе с тем мы никогда не стесняли друг друга. У каждой из нас была своя независимая жизнь. Я писала дневник, Оля к нему не притрагивалась. У каждой из нас был круг своих приятельниц, которые не мешали нашей основной дружбе.
Помню одно свое довольно аляповатое стихотворение, вписанное в текст дневника, вероятно, в V или не позднее IV класса:
Мне тесно, мне душно в стенах института,
Мне хочется волей свободной дышать,
Мне хочется страстью бездумной упиться,
Мне хочется жить, и любить, и страдать!
Стихотворение совершенно не соответствовало моему темпераменту и моим реальным настроениям, но все же оно в преувеличенной форме выражало какие-то порывы и действительную душевную неудовлетворенность.
Романы… Романы… Романы…Это, вероятно, произошло в IV классе. Из института загадочно исчезла Вера Кулакова. Ее задержали на одной из станций под Харьковом, в обществе молодого офицера, и отправили домой. Больше в институте она не появлялась.
Летом во время каникул при переходе в III класс Варя Яржембская познакомилась где-то с каким-то юнкером или молодым офицером. Он влюбился в нее и стал писать ей в институт.
Всегда сдержанная, даже замкнутая, казавшаяся мне высокомерной, общавшаяся только со своей подругой по Смольному Ниной Манюковой, Варя неожиданно стала удивительно развязной. Она читала вслух получаемые письма и издевательски смеялась.
Я недоумевала. Как можно слова любви и поклонения произносить таким насмешливым, пошлым тоном?! И казалось, что, издеваясь над молодым человеком, она публично хвастается своей победой. Таким же тоном она читала вслух свои насмешливые ответные письма, не обращая внимания на то, слушают ее или нет.
Я потеряла к Варе всякое расположение. Примерно в те же дни, когда разыгрывался «роман в письмах» Вари, Женя Лобова как-то подошла ко мне и тихо сказала: «Пойдем, я что-то покажу». Мы подошли к ее парте, Женя подняла ее крышку, вынула небольшой конверт, а из него фотографическую карточку. На меня открыто и прямо глянуло привлекательное умное лицо молодого офицера. (Опять офицер!) «Он сказал моей маме, – произнесла Женя шепотом, – я надеюсь, когда Женя окончит институт, она будет моею». Женя тихо счастливо засмеялась и совсем по-институтски воскликнула: «Дуся!» – и поцеловала карточку.