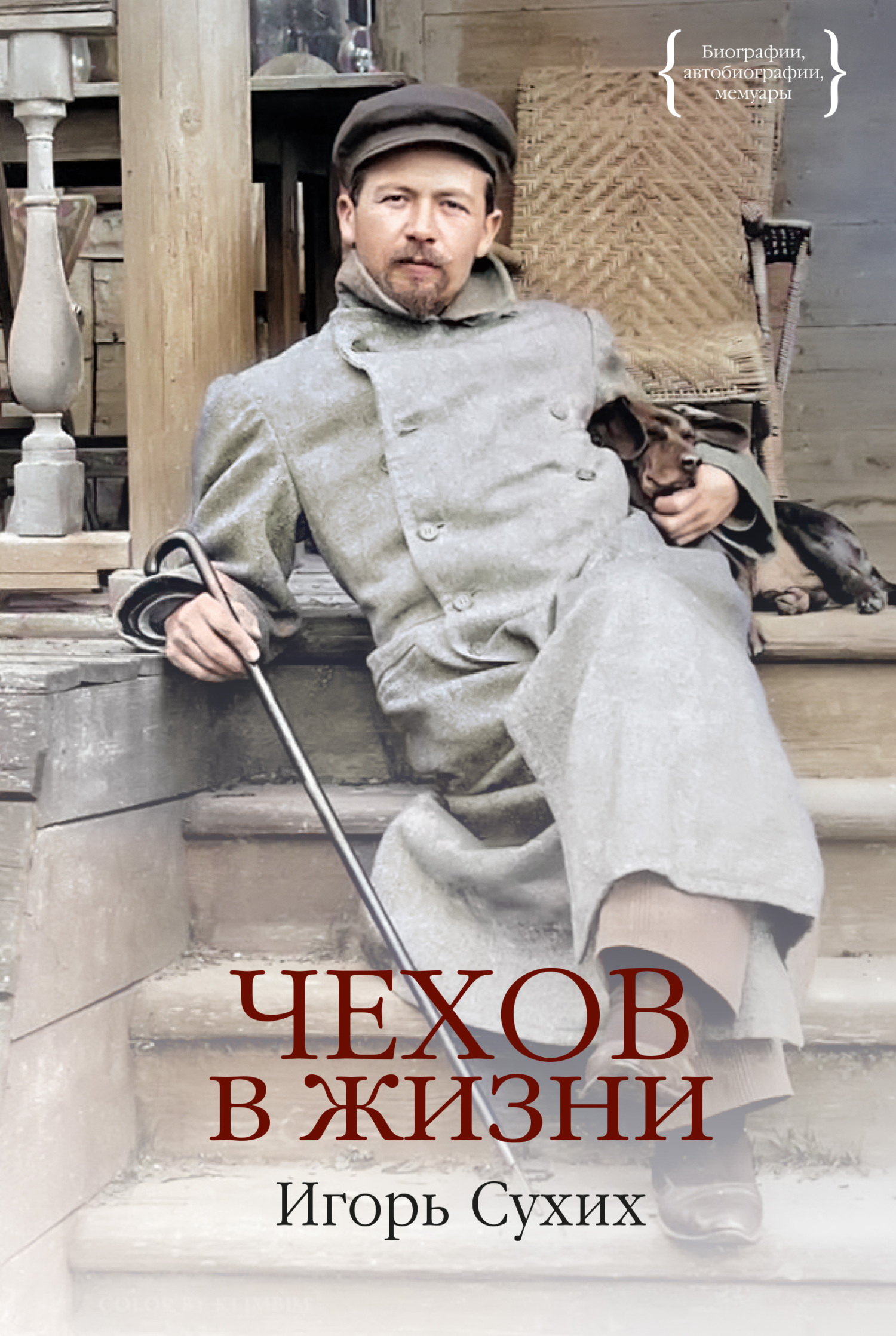троим делается стыдно. Толстый монах пытается свалить происшедшее с ним на бесовское наваждение, но неудачно… Молча доходят они до города и молча расходятся затем в разные стороны».
Как жаль, что этот рассказ не был написан Чеховым!.. Если вспомнить удивительное описание грозы в чеховской «Степи», можно наверное сказать, что получился бы один из тех заразительно жизненных, классически сжатых рассказов, какие умел писать только Чехов, – художественный перл, вроде его «Ведьмы» и «Свирели»… А юмор Чехова – смелый, сочный, жизнерадостный, как бы ярко он вспыхнул здесь, хотя бы в той же покаянной исповеди блудного монаха!..
В этот первый писательский период источник чеховского юмора бил особенно сильной струей, и его брильянтовые брызги сверкали в изобилии всюду – в рассказах, письмах, в устных беседах и случайных замечаниях.
И. Л. Леонтьев-Щеглов. Из воспоминаний об Антоне Чехове
Но вскоре он сосредоточивал на себе общее внимание собственными рассказами, по большей части импровизациями, полными заразительного юмора, насыщенными огромной наблюдательностью и выраженными в форме необыкновенно образной. Бывало, слушаешь его низковатый голос, великолепно передающий всевозможные интонации, и буквально помираешь со смеху, а сам рассказчик спокоен, серьезен и с едва заметной улыбкой в уголках рта посматривает на своих дружно, заливисто смеющихся собеседников.
Обыкновенно Антон Павлович потешал нас художественными миниатюрами (так ему свойственными в ту пору творчества), взятыми из жизни крестьян, духовенства и уездной полиции.
Вот его любимый рассказ, к которому он иногда присоединял звуковые вариации.
Утро в поле, сыроватое от утреннего тумана. Врезавшись в полосу овса, стоит телега. Деревенская лошаденка, лениво пощипывающая колосья, вытертым хвостом отмахивается от назойливых оводов. Вожжи-веревки давно уже свесились и запутались в колесах.
На телеге в соломе спят три фигуры: худенький попик с козлиной бородкой, в ряске, стянутой шитым широким поясом.
Лежит он в цепких объятиях дьячка с косичкой, в длинном синем полукафтанье. Ноги обоих сильно прижаты грузным туловищем отца дьякона с всклокоченной копной рыжей гривы, которая обильно утыкана соломенной кострикой. В селе (если память не изменяет) Пыряеве, у старосты, справляли храмовой праздник; что же удивительного, что после усиленного возлияния и хороших проводов с посошками вся компания полегла мертвецки, в надежде на сивку, которая – не впервые – довезла бы их до дому, если бы не встретилось по дороге соблазнительное угощение – спелый овес.
Солнышко давно уже вышло из-за леса; припекая, первым разбудило батюшку, носившего одно из редко встречающихся имен. Рука его хотела сотворить крестное знамение, но неудержимо одолела икота, чередуясь с привычным возгласом – «во имя отца и…». Дьячок, спавший с открытым беззубым ртом, несколько раз старался высвободить свою руку из-под батюшки (жест А. П-ча); пробудившись окончательно, старик кое-как, с трудом, получил некоторую свободу действий. «Пре… Пресв… Богородица…» – бормотал он, так и не докончив начатой молитвы, пока не заворочался отец дьякон да спросонья так хватил: «Яко до царя всех подымем!» – что испуганная лошаденка шарахнулась в сторону, свалив телегу набок. Все трое очутились на земле, среди помятых колосьев; с недоумением озирались некоторое время, потом медленно стали оправляться.
Рассказ кончен как бы многоточием. По всей вероятности, это сценка с натуры, из наблюдений его в период летнего пребывания в окрестностях Москвы.
Антон Павлович приправлял свое повествование такими звукоподражаниями, паузами, мимикой, насыщал черточками такой острой наблюдательности, что все мы надрывались от смеха, хохотали до колик, а Левитан (наиболее экспансивный) катался на животе и дрыгал ногами. Конечно, здесь главную роль играло мастерство передачи автора, не скупившегося на такие подробности, которые с трудом можно восстановить.
В. А. Симов. Из воспоминаний о Чехове
Как-то летним вечером <…> я ехал в маленьком тарантасике вместе с Чеховым на его дачу близ Воскресенска… Дорогою Чехов рассказал мне сюжет романа, который он в то время собирался писать. Первая глава начиналась по-чеховски, очень оригинально.
– Представьте тихую железнодорожную станцию в степи, – рассказывал он, – недалеко имение вдовы-генеральши. Ясный вечер. К платформе подходит поезд с двумя паровозами. Затем, постояв на станции минут пять, поезд уходит дальше с одним паровозом, а другой паровоз трогается и тихо-тихо подкатывает к платформе один товарный вагон. Вагон останавливается. Его открывают. В вагоне гроб с телом единственного сына вдовы-генеральши…
А. С. Лазарев-Грузинский. О Чехове
Вчера меня известили, что Курепин болен безнадежно. У него рак на шее. Прежде чем умрет, рак съест ему половину головы и замучает невралгиями. Говорят, что жена Курепина писала Вам.
Смерть подбирает людей понемножку. Знает свое дело. Напишите пьесу: старый химик изобрел эликсир бессмертия – 15 капель на прием, и будешь жить вечно; но химик разбил стклянку с эликсиром из страха, что будут вечно жить такие стервецы, как он сам и его жена.
Чехов – А. С. Суворину. 8 сентября 1891 г. Москва
Помню – раз как-то мы возвращались в усадьбу после долгой прогулки. Нас застиг дождь, и мы пережидали его в пустой риге. Чехов, держа мокрый зонтик, сказал:
– Вот бы надо написать такой водевиль: пережидают двое дождь в пустой риге, шутят, смеются, сушат зонты, в любви объясняются – потом дождь проходит, солнце – и вдруг он умирает от разрыва сердца!
– Бог с вами! – изумилась я. – Какой же это будет водевиль?
– А зато жизненно. Разве так не бывает? Вот шутим, смеемся – и вдруг – хлоп! Конец!
Конечно, он этого «водевиля» не написал.
Т. Л. Щепкина-Куперник. О Чехове
Чехов говорил мне, что страдает от наплыва сюжетов, порождаемых впечатлениями зрительными и слуховыми. Сюжеты и фабулы слагались в его голове необычайно быстро. Характерный случай рассказывал мне Горький.
Гуляли они с Чеховым по набережной Ялты и разговаривали о большей или меньшей легкости писательской «выдумки». В это время мимо пробежал черный кот.
– Вот, – сказал Горький, – придумайте, Антон Павлович, рассказ на тему «Черный кот».
И Чехов тотчас без раздумья сочиняет рассказ:
В Петербурге на Васильевском острове стоит пятиэтажный желтый дом. Черная узкая лестница, на которой скверно пахнет кошками. На пятом этаже дверь, обитая черной порванной клеенкой. Налево от двери в комнатушке, отделенной дощатой перегородкой от кухни, сидит курсисточка и читает «Эмансипацию женщин» Милля.
А рядом в кухне старуха-прачка стирает белье и разговаривает с хозяйкой, женщиной еще не старой.
– Нет, ты со мной не спорь! Я женщина старая, бывалая. Что я скажу, то уж истинная правда. Коли ты хочешь, чтобы кто там ни на есть от тебя не отстал, то вот мой совет. Поймай черного кота, живым свари его в кипятке. Вынь у него дужку да ею потихоньку и ткни