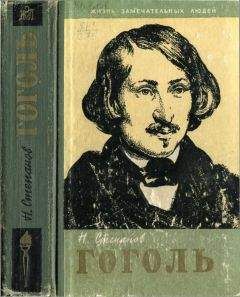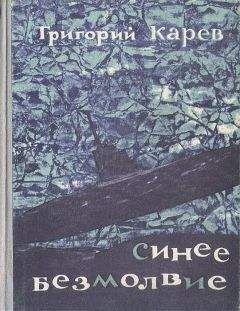— От этого, добрейшая матушка, — недовольно говорил он, — только новые повинности, новые заботы и разврат, присутствующий всегда в деревнях, находящихся на больших дорогах. Всякая проезжая сволочь будет подущать и развращать мужиков, которые, слава богу, до сих пор еще нравственнее других.
Ему было скучно и тягостно в родном гнезде. Мелочные заботы и огорчения матери, как и прежде целыми днями хлопотавшей по хозяйству. Ее озабоченность, ее тревожные взгляды, украдкой бросаемые на сына, скучающие, настороженные лица сестер, боявшихся чем-нибудь прогневить или обеспокоить брата, наезды соседей-помещиков, с нескрываемым любопытством глядевших на него, как на заморское чудо, — все это стесняло и раздражало Гоголя.
Ему захотелось скорее уехать отсюда. В Москве друзья, которые понимают его: Аксаковы, Погодин, Шевырев. Неподалеку Александра Осиповна — калужская губернаторша. Милая богобоязненная старушка, его названая мать Шереметьева. А здесь нестерпимая жара, какой не было и в Палестине, холера, тревожная скука, скрытая напряженность. Сестрам хотелось бы новых платьев, мать мечтает о проезжей дороге, хозяйство приносит одни убытки и неприятности, денег неизменно не хватает… Нет, он не останется здесь, уедет.
Наконец назначен и день отъезда — 24 августа. По дороге он еще заедет только к старому другу — Саше Данилевскому, который живет неподалеку от Сорочинец и наслаждается семейной жизнью.
На прощание Гоголь оживился. Когда все собрались в большой гостиной, он появился нарядно одетым, в цветном, словно змеиная кожа, жилете, тщательно причесанный и надушенный.
— А ну-ка, — обратился он к младшей сестре Ольге, — сыграй мне «Чеботы»!
Ольга села за фортепьяно и стала играть ему украинские песни, а Гоголь слушал, притопывая ногой и подпевая.
На другой день все встали рано утром.
Лиза пришла в кабинет помочь брату укладываться. Он, слегка ссутулясь, сидел на кровати и укладывал свой чемоданчик, неизменно сопровождавший его в пути. В Сорочинцы поехали в двух экипажах: пол-дороги с братом ехала Анета, а затем Лиза. Там все распрощались. Сквозь слезы смотрели сестры на удалявшийся по пыльной дороге экипаж, в котором виднелась небольшая, сгорбившаяся и тонкая фигура Гоголя.
Впереди лежала гладкая, сожженная солнцем степь.
12 сентября 1848 года Гоголь приехал в Москву. Он остановился на Девичьем поле у Погодина. Оба они постарались забыть те недавние недоразумения, которые ожесточили их друг против друга.
— Вот ты нагрубил, или, лучше, обругал меня, в своей книге перед лицом всей России, — с горечью заметил Погодин при встрече, — да я и то снес! Значит, что я горд или добр? В твоей книге мне указали места, касающиеся меня. Я готов был плакать.
— Мой добрый и милый Михаил Петрович! — оправдывался Гоголь. — Я знал, что ты не будешь сердиться,
— Ты тогда напрасно обиделся за помещение твоего портрета в «Москвитянине», — оправдывался Погодин. — Я никак не мог этого предполагать! Я думал даже сделать тебе маленькое удовольствие, а твоим почитателям большое.
— Ты огорчился и, может быть, доселе огорчен, — примирительно сказал Гоголь, — а я обрадовался и доселе рад. Обрадовался тому, что с этой минуты поселилась у меня к тебе такая любовь, какой никогда не было! И мне кажется, что дружба наша с этих пор только начинается, а до того был один обманчивый призрак…
Этим объяснением с ссорой было покончено.
Через несколько дней Гоголь выехал в Петербург. «Езжу и отыскиваю людей, от которых можно сколько-нибудь узнать, что такое делается на нашем свете! В Москве сейчас почти никого нет. Все сидят по дачам и деревням!» — заявил он Погодину, удивленному его неожиданным отъездом.
В Петербурге Гоголь встретился с Прокоповичем, в окружении его большой семьи, с Плетневым и приехавшим из-за границы Анненковым.
Но особенно часто он бывал у Вьельгорских. Его привлекала там младшая из сестер — Анна Михайловна, волновавшая и тревожившая Гоголя своей молодостью, наивным и чистым девическим расцветом своей души, своей жизненной неискушенностью. В чопорном, светском доме Вьельгорских она казалась такой простой, непосредственной. Встречаясь с нею, Гоголь чувствовал незнакомое ему волнение, ему хотелось опекать ее, отдалять от всего дурного. Однако он скрывал свое волнение и говорил с нею сухо, поучительно, менторским тоном. Он сокрушался состоянием ее здоровья, ее хандрой, ее одиночеством и в то же время ревновал ее к свету, к той полной довольства и веселой праздности жизни, которая была уделом ее круга.
— О здоровье вновь вам инструкция, — говорил он поучительно и строго. — Ради бога, не сидите на месте более полутора часа, не наклоняйтесь на стол: ваша грудь слаба… Старайтесь ложиться спать не позже одиннадцати часов, — объяснял он ей, словно врач пациентке. — Не танцуйте вовсе. Да вам же совсем не к лицу танцы! Ваша фигура не так стройна и легка. Ведь вы нехороши собой! Знаете ли вы это достоверно? Вы бываете хороши только тогда, когда в лице вашем появляется благородство душевное. Нет у вас этого выражения — вы становитесь дурны.
Бедная Анна Михайловна смущалась, краснела, не знала, что ответить этому странному человеку, полному непреложной уверенности в себе и в то же время несчастному и одинокому, гениальному и беспомощному в одно и то же время. Она его глубоко уважала и даже жалела, но он оставался для нее чем-то вроде священника или врача.
Гоголь, узнав, что граф Соллогуб предложил своей молодой снохе читать лекции для ознакомления ее с современной литературой, обещал Анне Михайловне и свои услуги:
— Мне хотелось бы только, чтобы наши лекции начались вторым томом «Мертвых душ»! После них легче и свободнее было бы душе моей говорить о многом. Много сторон русской жизни еще не обнаружено ни одним писателем. Хотел бы я, чтобы по прочтении моей книги люди всех партий и мнений сказали: «Он знает точно русского человека. Не скрывши ни одного нашего недостатка, он глубже всех почувствовал наше достоинство!»
Смущенная, растерянная девушка не могла найти ответа на эти рассуждения. Гоголь, казалось, говорил сам с собой.
Частые посещения дома Вьельгорских не прошли незамеченными. Луиза Карловна встречала его все холоднее и официальнее. Анна Михайловна оставалась в своей комнате и выходила, робеющая и неразговорчивая, только к чаепитию. Граф Михаил Юрьевич подавал ему руку с таким величественным видом, словно оказывал величайшее снисхождение.
Через Прокоповича его пригласил к себе преподаватель русской литературы в кадетском корпусе Комаров, приятель недавно скончавшегося Белинского. Гоголь дал согласие, попросив позвать несколько петербургских литераторов, чтобы с ними познакомиться. К девяти часам у радушного и хлебосольного хозяина собрались приглашенные. Пришел Гончаров, с тяжелой, гладко причесанной головой, несколько слишком грузный для своего возраста. Вместе с расфранченным И. И. Панаевым, напоминавшим беззаботного фланера с парижского бульвара, пришел молодой поэт Некрасов, лишь недавно получивший известность в литературных кругах своими суровыми, сильными стихами, а главное — изданием «Петербургского сборника», заинтересовавшего и Гоголя. Появился и изящный, с тщательно расчесанными кудрями автор «Антона Горемыки» — Григорович вместе с Анненковым и критиком Дружининым. На столе был накрыт роскошный ужин.