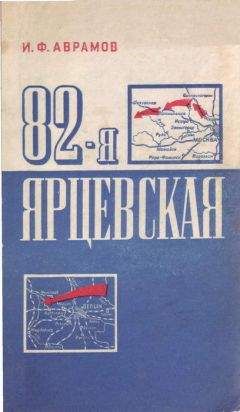Нам сообщили, что наконец овладели станцией Воропоново и пошли на Садовое. Это было под вечер. В это время я выехал с ранеными на Песчанку, затем свернул на Старо-Дубовку, где и сдал раненых. Здесь узнал, что утром был наш бригврач Джатиев, но не остался, и его увезли в госпиталь в Бекетовку. Поэтому, возможно, не возвратилась санитарная машина и Нина. К полуночи вернулся с двумя машинами в медсанвзвод. Нас ждала еще большая группа раненых, и мне предложили их отвезти в медсанбат в ту же Старо-Дубовку. Поехал вторым рейсом. Очень хотелось спать, с трудом старался бодрствовать и отвлекать водителя от сна. На исходе ночи вернулись в медсанвзвод. В приемно-эвакуационной находилось несколько раненых. Поток их к утру уменьшился. Доложил о прибытии и с водителем в кабине санитарной машины, притулившись друг к другу, заснули.
Суббота, 23 января 1943 г. С того света.
Мы заснули в машине с водителем и окоченели. Он раньше проснулся, вскочил, размялся. Меня ему было жаль будить, но потом сообразил, что могу замерзнуть и не проснуться, и поднял тревогу. Сообразил вовремя, ибо я, видно, был на грани замерзания. Вокруг меня оказались Майя, Гасан-Заде, Гомельский, Шепшелев. Они-то меня и тормошили, вытянули из машины и пытались поставить на ноги, но я не мог стоять, опускался на землю. Взяли меня под мышки и понесли в перевязочную палату. Сняли шинель, валенки, шапку, уложили на носилки и стали ломать руки и ноги в суставах, мяли мышцы, растирали тело через одежду. Шепшелев лил в горло разбавленный спирт. Опять теплынь стала разливаться по всему телу. Доходило, правда, смутно еще, что со мной что-то случилось. Меня заставляли пить горячий сладкий чай. Я все уже понимал, что со мной происходило, но говорить еще не мог. Мне было легко, тепло. Потрескивали дрова в железной печке. Снаружи палатки мело, завывал со свистом ветер. Эти звуки и воспринимались остывавшим мозгом знакомой мелодией.
Доктор Майя все спрашивала, как я себя чувствую. Я пожал ей руку, кивнул утвердительно головой, но слова почему-то не получались. Все вышли из палатки. Остался возле меня Гомельский. Стал рассказывать, что под утро приехала Нина. Больше суток задержала санитарную машину. Джатиева привезла в Бекетовку и положила в хирургический полевой подвижной госпиталь. Вчера еще ему удалили пулю.
Нина всем говорила, что она оказалась немецкой. Какая-то диверсионная группа, действующая в нашем тылу, обстреляла машину и ранила бригврача. Диверсанты так диверсанты. А пуля действительно была немецкой.
Зашла Майя, опять спросила о самочувствии, пощупала пульс и предложила Гомельскому походить со мной, а затем и побегать. Я сказал, что сам смогу (заговорил наконец), поднялся. Голова закружилась. От спирта выпитого или от слабости. Сел. Познабливало. В палатке было прохладно. Надел валенки и шинель. Придерживаясь за Гомельского, стал ходить по палатке, а затем пошел и самостоятельно. Немного отдохнул и вышел на улицу. Стоял хороший мороз — за двадцать. Дышалось легко. Зашел в эвакуационную палатку. Меня шумно встретили, поприветствовали и поздравили с выздоровлением, будто совершил подвиг.
— Жив?
— Слава богу!
— Вот и воскрес.
— Что на том свете видел?
Понимал, что, должно быть, замерзал, а сейчас опять в строю. Не хватало еще замерзнуть. А могло случиться.
Внимание всех от меня отвлекли прибывшие две машины с ранеными. Привез их Модзелевский. Все стали ими заниматься. Я почему-то оказался не у дел. Меня не привлекали, сам пытался помочь, но меня отстранили от оказания помощи раненым. Видно, не был в состоянии работать. Пребывал еще в достаточно заметном алкогольном опьянении или преобладала общая слабость, что исключало какую-то пользу от меня. Стало знобить, согреться было негде. Постепенно приходил в себя.
Прибыл офицер связи из штаба бригады с приказом медсанвзводу убыть в новый район — севернее Верхней Ельшанки, где к исходу дня будут сосредоточены штаб и боевые подразделения бригады.
Недолгими были сборы. Санитарных машин осталась только одна, и в ней разместился личный состав медсанвзвода, в основном женщины.
— К женщинам захотел, не разрешаю. Пошли в эту машину, — услышал я голос Майи, — не раздумывай, лезь и меня затащи.
Я растерялся, какое-то время раздумывал, и то, видно, от неожиданности.
— Не раздумывай, не дам замерзнуть, — повторила Майя. Не знаю, какая сила меня забросила в машину, я уже подавал ей руку и втянул в машину, упав на спину, опрокинув ее на себя. Повозились немного, посмеялись. Шепшелев не упустил возможности пошутить над нами. Вдвоем доползли до кабины, развернули матрасы и устроили себе ложе.
— Думаю, не замерзнешь? — шепотом спросила она.
— Грешно было бы в такой компании, — так же шепотом ответил я.
— А я за тебя очень испугалась. Водитель прибежал и доложил, что замерз ты в машине. Так и сказал, что уже неживой. Вообще был на грани. Так можно и концы отдать. Как ты мог в холодной машине уснуть?
— Очень устали, не спали эту ночь, да и предыдущие так же. Думали немножко вздремнуть, а провалился в преисподнюю. Нет, в рай попал, такой чудный сон видел, что даже и не расскажешь. Так хорошо мне было, во сне, конечно. Самое удивительное — это тепло, приятнейшее тепло. Странно как-то, ведь замерзал, а чувствовал тепло.
— Хорошо, что и наяву все обошлось, — она коснулась губами моей щеки.
— Вот сейчас я в раю. Это действительный рай, наяву, — проговорил я и потянулся к ней губами, отыскивая в темноте ее лицо, нашел — коснулся лба, поцеловал глаза, пытался губами дотянуться до ее губ, но она отстранилась, быстро заговорила:
— Не надо, что ты делаешь? — И выставила ладонь свою перед моим лицом. Я стал целовать ее руку, прижав ее к своим губам. Она выхватила ее.
— Опомнись, не теряй головы. Успокойся. Вот дура я. Дура. Еще движение, и я выпрыгну из машины. Дай слово, что будешь хорошо вести себя!
Я молчал. Выдавало мое волнение глубокое и шумное дыхание.
— Успокойся и дай слово.
— Ты же меня первая поцеловала, и я решил ответить тем же. Почему отталкиваешь меня? Противен тебе?
— Я допустила слабость от радости, что ты не замерз. Так испугалась за тебя, что голову потеряла, а ты своим поведением отрезвил меня, и прошу вести себя хорошо.
Мне все не хватало воздуха, дышал все шумнее, и меня прорвало:
— Я… ты мне очень дорога, — выпалил я одним духом, — вот мое тебе слово. Лучше уж сиди здесь и терпи меня.
— Если только что позволишь — я выпрыгну. Мальчишка! Как ты смеешь мне угрожать?
— Извини, скандала не будет. Слова тебе хорошего больше никогда не скажу. Живи без ласки и без хороших слов, если так тебе хочется. Вот так, — закончил я.