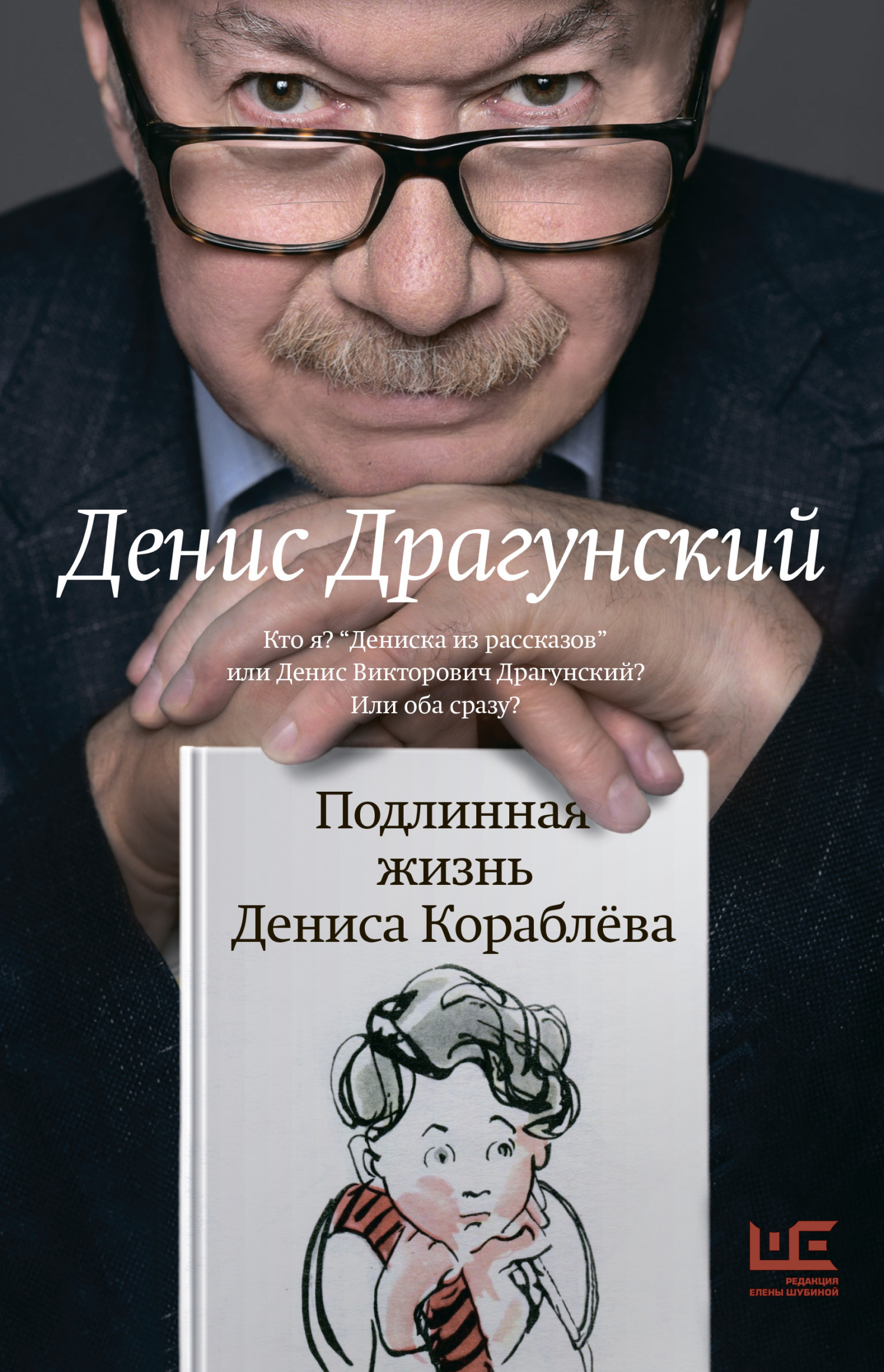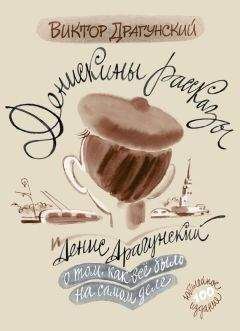споров молодого докладчика с какими-то пожилыми доцентами на заседаниях научного студенческого общества нашего факультета. На любой тезис, на любую изображенную на доске структуру эти седые господа взмахивали руками и вскрикивали: «Ну что вы! Все гораздо сложнее!» А на резонный вопрос: «Сложнее? А как именно сложнее, в каком именно узле вы видите нераспутанные нити?» – они и вовсе начинали кипятиться и не к месту поминать марксистскую диалектику.
Десакрализация знания – вот за что ненавидели Щедровицкого. Не хочу вдаваться в моменты, когда критика по его адресу была резонной. Скажу коротко: он, как и любой мощный философ, не мог избежать соблазна создать «общую теорию всего»; и второе: он не мог избежать соблазна стать жестким и непререкаемым лидером. Но упреки по этому поводу столь же справедливы, сколь и бессмысленны, потому что ученый, а тем более создающий школу, стоящий во главе группы последователей, который не хочет единым махом охватить весь мир и не следит за дисциплиной в своем семинаре, – это не ученый, а праздный дилетант.
Затея Щедровицкого с семинаром по Платону как-то сдулась. Но мне эта идея показалась замечательной, и поэтому мы с Андрюшей Яковлевым, Лёней Резниченко и еще двумя-тремя ребятами решили организовать философский семинар и начать как раз с Платона. Конечно, у нас не было настоящего знания античности – я же был едва-едва на первом-втором курсе филфака, да и касательно глубины философского анализа тоже возникали проблемы. Но собираться в хорошей компании и обсуждать тексты Платона – это было невероятное счастье. И одним Платоном дело не ограничилось. Мы, разумеется, пытались решать общие проблемы, то есть проблемы отражения реальности в сознании, структуры текста и структуры мира. Не знаю, до чего бы мы договорились и доисследовались, если бы занялись делом всерьез, но, возможно, именно некоторая несерьезность нас и спасла. Потому что Андрюша все-таки при всем своем неподдельном и горячем интересе к философии собирался стать журналистом, Лёня Резниченко – тоже журналистом, но скорее научным, или социологом. Я мыслил себя как византиновед и ходил на домашние занятия аж к самому Александру Петровичу Каждану, а моим научным руководителем по курсовым работам и диплому был выдающийся палеограф Борис Львович Фонкич. А наш друг Алик Анатолев, который тоже захаживал на наш семинар, собирался написать диссертацию по психологии рекламы, хотя был просвещеннейший даос с настоящей китайской школой. Итак, для всех для нас изучение философии вообще и Платона в частности было всего лишь гимнастикой мозга, разминкой логики. Тренингом парадоксов.
Был среди нас еще один парень. Звали его Валера Рябов. Он был инвалид-колясочник и страшно увлекался философией. У него дома тоже был целый философский семинар, вернее, сборище умников и любителей поговорить про умное. Валера давал какую-то тему, и все ее обсуждали. Это мог быть какой-то логический парадокс. Это могла быть наугад взятая страница, например, из Канта. Это мог быть какой-нибудь доклад минут на десять, который делал один из участников, и потом долгое, долгое обсуждение. Больше всего мы любили проблемы эстетики. Существует ли «прекрасное само по себе», связь эстетического критерия с ценностным и социальным… Да и вообще, что такое «способность суждения».
Об этих сборищах я могу сказать все что угодно. Я могу смеяться. Могу уличать самого себя и своих друзей в поверхностности, в невежестве, в самомнении и даже самолюбовании. Но я не могу сказать лишь одного – что это была напрасная трата времени.
Что касается меня самого, то я был увлечен этими логико-философскими материями чрезвычайно. У нас на филфаке был короткий курс под названием «Логика». Странным образом мы проходили не просто Аристотелеву силлогистику, но и какие-то современные штуки. В частности, нам настоятельно рекомендовали читать Тарского – великого математика и логика ХХ века. Когда я читал его тексты, я испытывал очень странное чувство. Потом, через десяток, наверное, лет, я прочитал автобиографию английского историка Коллингвуда, где он рассказывал, как совсем юным мальчиком прочитал «Пролегомены» Канта и его охватило странное чувство – одновременной труднопонятности, но при этом чрезвычайной важности, чрезвычайной значимости того, что он читает. Значимости для всего человечества и, главное, для собственного даже не ума, а для сердца. Примерно такие же чувства охватывали меня в мои двадцать, когда я читал Тарского, и после, когда я с карандашом в руках в буквальном смысле прорабатывал очень короткую, но чрезвычайно емкую книгу Роджера Линдона «Заметки по логике». И уже через много, много, много лет – когда читал Владимира Успенского. Очевидно, это был какой-то невскрытый или недовскрытый сектор моей души. Но при этом я думаю, как хорошо, что Бог не дал мне настоящих математических способностей. Однако и в разговорах, и даже в каких-то студенческих докладах я любил эдак подпустить высокой методологии. Однажды ранней весной 1969 года я даже послал тезисы на научную студенческую конференцию в город Саратов. Это было одновременно очень лихое, наивное и путаное сочинение, где я попытался с помощью двух-трех, так сказать, операциональных блоков показать, как устроен словарь, то есть лексический запас языка. Странное дело, но я получил приглашение, поехал и сделал доклад. Руководительница этой конференции профессор Баранникова сказала мне, улыбаясь (шутила, наверное): «У нас ученый совет факультета заседал, чтобы решить, что это. Бред сивой кобылы или… – она сделала паузу, – или все-таки пусть приедет и доложит». Я загордился.
Ах, Саратов! Плацкартный вагон. Пыльный город. Общежитие. Мне поставили раскладушку в гладильне. Получалось, что у меня отдельная комната, в которой постоянно толкутся две-три филологические девицы в байковых халатиках и шлепанцах на босу ногу, наглаживают свои сарафаны и блузочки, приплевывая на утюг и неробко рассуждая о судьбах мировой литературы. Раскладушка была старая, брезент провисал почти до полу, я спиной ощущал кафельный холодок, а я лежал, закинув ногу на ногу, подложив под голову свернутое валиком общежитское одеяло, я курил и стряхивал пепел в жестянку, я пил из горлышка портвейн «три семерки», я закусывал пестрым рыночным яблочком – и болтал без умолку, философствовал и вообще всячески блистал перед девицами, которые стояли вокруг шатких, тонконогих гладильных досок.
Мы говорили о тексте и мире, и я – эк же меня понесло! – выразился так: «Структура, содержание и смысл мира есть не что иное, как структура, содержание и смысл текста об этом мире, отпущенного (гегелевское: entlassen) в мир». И этот тезис, и мои дальнейшие комментарии девицам понравились, а вот я сам – не очень, к сожалению. Ну ладно. Не впервой. Потом я прочел у Стендаля: «Он думает, что соблазняет женщин, – а на самом деле он их только развлекает».
В