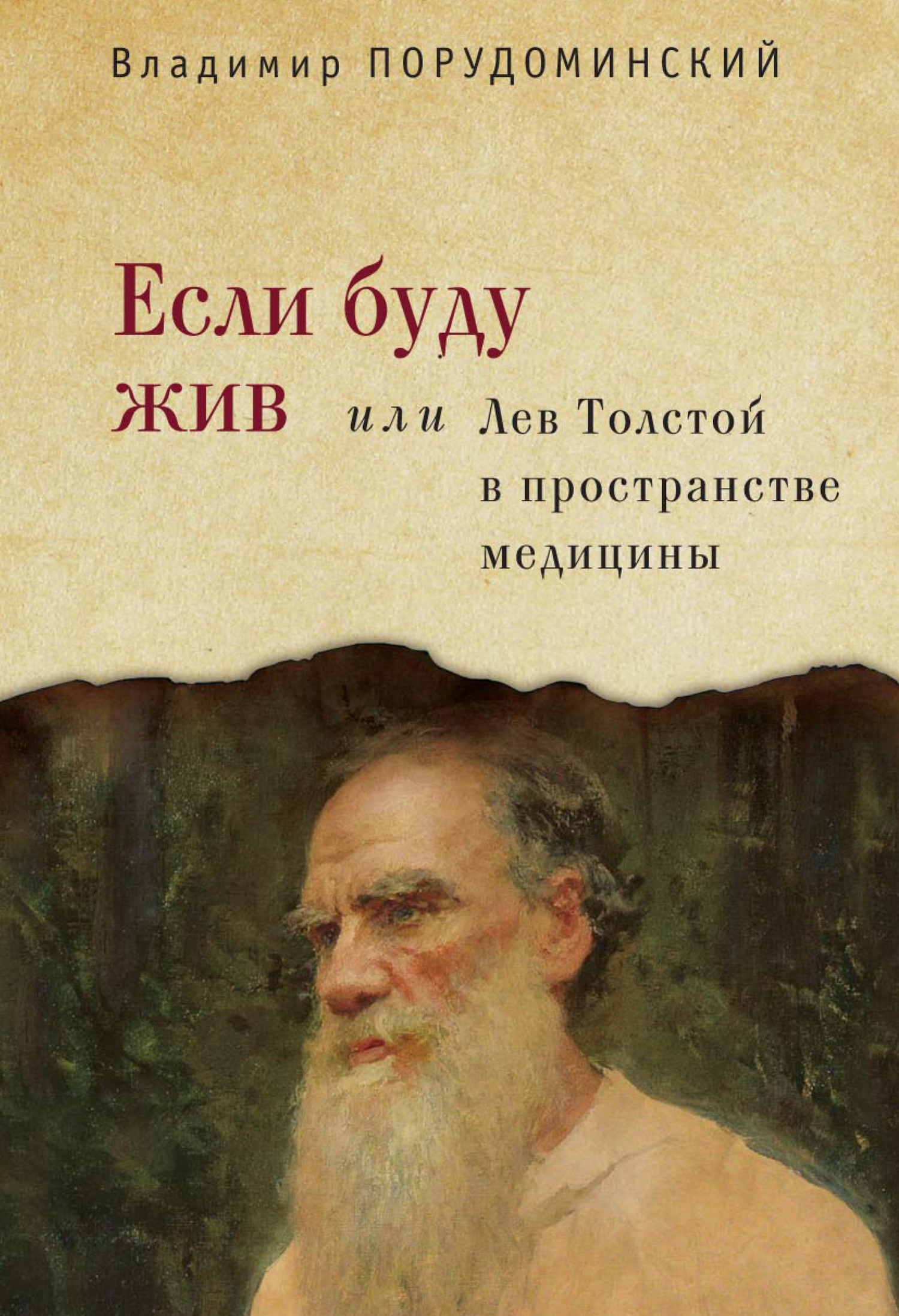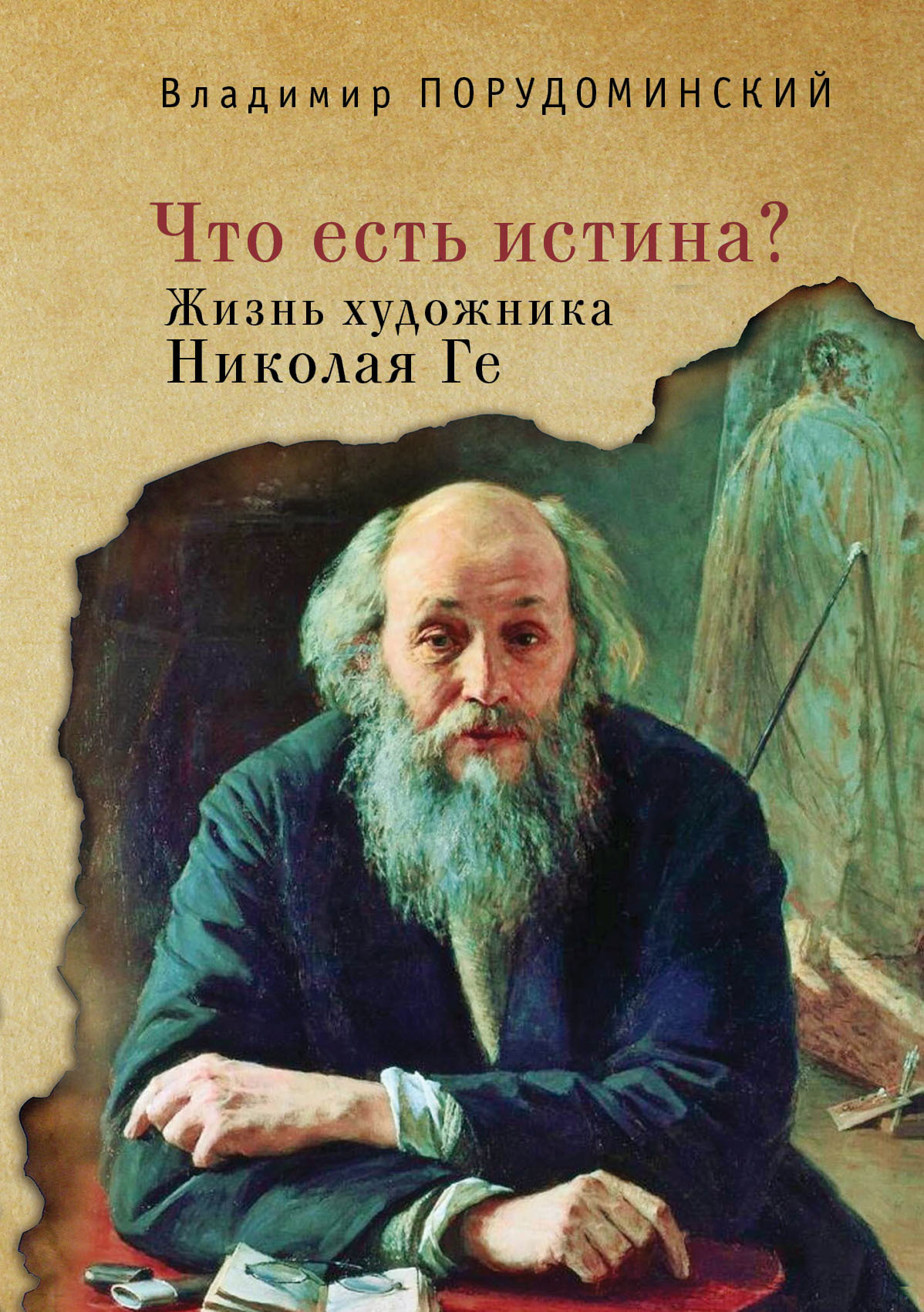за спину, но не в силах был остановить падение его тела, и на моих руках он медленно опустился на пол. На мой крик прибежала Софья Андреевна, бывшая в столовой, стала целовать Льва Николаевича в лоб, позвала лакея, мы подняли его; он сел на полу, но, видимо, еще не приходил в себя и говорил: «Оставьте меня! Я сейчас засну… Тут где-то подушка была… Оставь, оставь…»
Мы уложили его на диван. Минут через пять он пришел в себя и ничего не помнил, что с ним было.
Вечером Лев Николаевич встал, вышел в столовую и попросил обедать, но ел очень мало. Он как будто забыл все – забыл, как зовут его близких родственников, и самые хорошо известные ему места. Не мог вспомнить, где Хамовники… Что это значит?..»
На другой день: «Льву Николаевичу гораздо лучше».
Тогда же, 2 марта, Софья Андреевна сообщает о случившемся в письме к дочери, Татьяне Львовне. Из письма узнаем кое-что о событиях, предшествующих припадку.
В последние дни Лев Николаевич прихварывает. Но: «сегодня ему уже лучше, температура 37,5, и он диктует Гусеву какой-то перевод с французского, что напрасно…»
И дальше: «Меня огорчает не столько болезнь папа, как резко определившееся притупление памяти. Сегодня мне даже жутко стало: он заснул на кресле, я писала рядом в гостиной и пошла за деньгами за телеграмму. Вдруг бежит мне навстречу папа в рубашке и кальсонах, в обеих руках часы, глаза странные. “Что это? Все часы впереди?” – говорит он. Я говорю, что нет, теперь четвертый час дня. Папа стал отрицать, говорил, что теперь утро. Я стала ему припоминать, что было утром. “Ничего не помню, ничего не помню”, – испуганно повторял он. Я упомянула о Черткове < Чертков незадолго перед тем приехал из Англии, где провел несколько лет в связи с запрещением жить в России>. “Какой Чертков? Когда приехал? Зачем?” Я побежала за Чертковым, он его стал допрашивать. Потом постепенно все понял, все вспомнил, и обрадовался, и начал диктовать Гусеву перевод».
Вечером 2 марта приезжают из Москвы вызванные телеграммами доктора Никитин и Беркенгейм (домашний врач Маковицкий в это время в Ясной Поляне отсутствует). Они застают Льва Николаевича, хотя бледного, слабого, но уже сидящего с книгой в кресле. В ближайшие дни он работает с обычной нагрузкой: правит корректуры, пишет статью, много читает, обдумывает новые замыслы.
Но Софья Андреевна, глядя, как он поправляется, в следующем письме к дочери не в силах удержаться от горестного вздоха: «Во всяком случае грустно и приходит в голову, что это несомненно начало конца».
«Когда я вырасту большой»…
Толстой тоже убежден, что – начало конца.
У Маковицкого – в «Записках»: «Лев Николаевич больше, чем когда-либо уверен, что ему мало жить осталось и потому «надо торопиться», старается работать. Александра Львовна и Варвара Михайловна не поспевают переписывать» <младшая дочь Толстого и ее подруга, В.М.Феокритова>.
Сам Лев Николаевич – в дневнике: «Здоровье уходит. Слава Богу, нет ни малейшего противления. Только, грешен, хочется кончить задуманное. А потом вспомнишь, как это все ничтожно, игрушечно, в сравнении с готовящейся переменой».
«Грешен»… «кончить задуманное»… «ничтожно»… «игрушечно»… – а через несколько страниц там же, в дневнике – семь (!) кратко изложенных художественных замыслов, которые он хотел бы исполнить.
На третий день после обморока Гусев записывает за ним: «Когда я вырасту большой, – начал Лев Николаевич в шутливом тоне <этими словами Толстой обозначает в разговорах то, что хотел бы сделать>…, – то возьму первое попавшееся судебное дело о революционерах и опишу, что он переживал, когда решил убить провокатора, что переживал этот провокатор, когда он его убивал, что переживал судья, когда постановлял приговор, что переживал палач, который его вешал…»
Он по-прежнему, может быть, в еще большей степени, чем прежде, интересуется диалектикой души людей, с которыми вместе живет на земле, старается понять, как являет себя эта диалектика в сопряжении многих душ, многих судеб.
Занеся в дневник про обморок (ему, по его словам, было очень хорошо, да вот окружающие подняли суматоху), он тут же пишет, что работа внутренняя идет, не переставая и все лучше и лучше: «Хочу написать то, что делается во мне и как делается; то, чего я никому не рассказывал и чего никто не знает».
Толстой много пишет в дневнике о смерти, постоянно думает, говорит о ней. Домашние поддерживают разговор, подчас начинают сами. В Ясной таких разговоров не страшатся, не прячутся от них, не изъясняются обиняками. Наверно, это мужество в обхождении с неизбежно приближающимся концом поддерживается, подкрепляется той обуревающей, захватывающей духовной атмосферой, возникающей вокруг Толстого, которая, даже при всех сложностях разладившейся семейной жизни, не может не влиять на окружающих. Ощущение огромной внутренней работы, вопреки годам и болезням в нем творимой, заразительно. «А я до сих пор думаю, что мне только двадцать лет. Все эти телесные слабости мне не показывают мою старость, а духовная – какая тут старость, все молодеешь». Это он в канун юбилея. А по прошествии: «Нога лучше, но общее состояние тела – желудка – дурно. В душе хорошо. Идет работа. Только теперь настоящая работа, только теперь, в 80 лет, начинается жизнь. И это не шутка, если понимать, что жизнь меряется не временем».
Три свидетельства. 12 апреля 1908-го
В известном смысле жизнь в самом деле меряется не временем. Но (пусть условно) мы привыкли делить ее на отрезки в соответствии с временами года, протяженностью суток, календарными месяцами. И по такому (пусть условному) измерению жизни через месяц и десять дней после первого обморока, 12 апреля 1908 года, у Толстого – снова обморок, второй.
Три достоверных описания, схожих и вместе в чем-то друг друга поправляющих и уточняющих, создают довольно полную и ясную картину произошедшего.
Из книги-дневника пианиста и композитора Александра Борисовича Гольденвейзера «Вблизи Толстого»:
Нынче (12 апреля) со Львом Николаевичем случился второй припадок. Это было так: перед обедом Лев Николаевич, вернувшись с прогулки, лег, по обыкновению, отдохнуть… Мы с Львом Львовичем сидели в столовой – в шахматы играли. Потом… я разговаривал с Татьяной Львовной.
В это время Лев Николаевич выходит из дверей, ведущих на лестницу, и говорит:
– Я так крепко спал, что все забыл. Иду сюда, Лева говорит, а я не могу понять, кто это говорит, и мне кажется, что это голос Митеньки (давно умерший брат Толстого).
Потом Лев Николаевич был совершенно такой, как всегда. Сели обедать. За обедом во время второго блюда шел общий