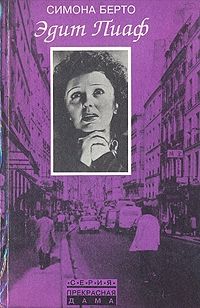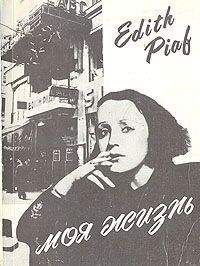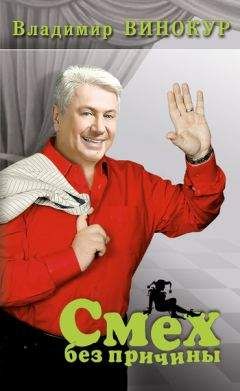Публика безумствует. Эдит поет двадцать семь песен. Когда занавес опускается в последний раз, зрители стоя аплодируют в течение семи минут этой маленькой женщине, такой одинокой на огромной сцене, но только что вызвавшей у них желание кричать и умереть от любви вместе с ней.
Лулу хронометрировал.
«Знаешь, семь минут это очень долго. Есть время подумать. Я их слушала… это было прекрасно… Мне было так хорошо, что сделалось больно! Все было слишком сильно! Кто-кто, а ты, Момона, поймешь меня. В течение этих семи минут, когда сердце, казалось, разорвется от радости, я поняла, с кем я навсегда обручена. С моей публикой. С Жаком все кончено. Никто ни в чем не виноват. Ему не повезло… Я подала на развод. Не гожусь я для семейной жизни. Она продолжалась четыре года, не так уж и мало! Теперь с замужеством раз и навсегда покончено. В следующий раз церковные колокола зазвонят по мне на похоронах…».
Глава шестнадцатая. В омуте наркомании
Для Эдит концерты в «Карнеги Холл» были не просто успехом, это был полный триумф.
— Момона, наконец-то я выскочила из дерьма. Мои приятели-американцы хорошо на меня действуют. Они ничего из себя не строят, не ломают комедию. Если они кого любят, так прямо об этом говорят. Тебе признаюсь: когда я туда ехала, дрожала мелкой дрожью, а теперь набралась мужества, я прежняя. Буду готовиться к концерту в «Олимпии».
— Будь осторожна, Эдит, не форсируй. А вдруг не хватит сил?
— Не морочь голову! Надоело это от всех слушать! Знаешь, что генерал Эйзенхауэр ответил врагам, которые просили его поберечь силы? — «Better live than vegetate»[56] Мне нужно наверстать упущенное!
И снова на бульваре Ланн начались наши прекрасные ночные бдения. Участников было много. К Шовиньи, Марку Бонелю и Даниэль прибавились шофер Робер Бюрне с женой Элен, незаметно ставшей у Эдит секретаршей на посылках; горничная Кристина с матерью, кухаркой Сюзанной. Это был фон, они служили у мадам Пиаф и жили в доме. Приходили навестить Эдит разные люди, временами бывавшие не только на вторых, но и на первых ролях, верные друзья: Лулу, Мишель Эмер, Гит, Конте, Шарль… и многие, многие другие.
Эдит не зазнавалась. Она так же просто могла привести в дом любого бродягу, ночующего на решетке метро, как Андре Люге или Франсиса Бланша.
«В бане все равны! Все слеплены на один фасон! Почему же я не могу посадить их рядом за мой стол?»
Кто же заходил еще? Старые «патроны», которых всегда хорошо принимали, — они забегали мимоходом поздороваться; и новые — в фаворе на денек. Но главную партию никто не пел; отсутствие тенора начинало чувствоваться в воздухе.
Тех, кто хоть раз окунулся в своеобразную атмосферу ночных посиделок на бульваре Ланн, постоянно туда тянуло. Они уже не могли без этого обходиться. Пили там обычно простое красное вино или пиво, в зависимости от настроения хозяйки. Икру ели ложками. Стоило кому-нибудь сказать, что он любит икру, как Эдит закупала ее килограммами. (Не для себя, она ее не очень любила, с нее хватало кофейной ложечки.)
Слушали пластинки, часами вели разговоры о работе… В комнатах было тепло, все располагались, как кому нравилось… Окружающий мир существовал где-то вокруг, но он никого не интересовал, нам было достаточно общения друг с другом.
Когда Эдит была в форме, она пела, пробовала новые песни, устраивая нечто вроде маленького прогона, это было чудесно! Ночь продолжалась до одиннадцати часов утра! Когда я там бывала, а приходила я часто, мы с Эдит веселились от души.
«Момона, посмотри на них! Как набрались! Хоть бы один держался на ногах».
Развалившись в креслах, на всем, что могло служить постелями, вповалку спали гости. У меня тоже слипались глаза, но я стойко держалась. Результат долгих тренировок! Эдит бы мне не простила, если б я ей изменила! Солдатик не сдается!
«Пойдем посидим в ванной, как в добрые старые времена…».
Но это не было как прежде. Даже наедине со мной Эдит уже не выходила из образа. Ее часто мучили боли. Суставы рук начинали деформироваться. И вот она, всегда прямо смотревшая жизни в глаза, начинала партию в покер со своим телом. Она не могла допустить, чтобы оно одержало верх. Ни козыри имела право только она. И когда ее изнемогающая плоть надрывалась от крика о помощи, она ей не внимала: вместо того, чтобы лечиться, глушила вопль страдания болеутоляющими лекарствами.
Самое трудное было уложить Эдит в постель. «Я не хочу спать, Момона, я не хочу ложиться». У нее совершенно не было терпения: требовалось, чтобы сон приходил немедленно, сваливал ее с ног. Она не хотела его ждать, лежа в постели, и, чтобы заснуть, глотала разные пилюли. Но часто это не давало результата, уже сказывалась привычка.
Когда мне наконец удавалось уложить ее с черной повязкой на глазах и с затычками в ушах, я на цыпочках прокрадывалась из комнаты. Ускользнуть удавалось не всегда. Часто, едва я бралась за ручку двери, раздавался окрик: «Момона!»
Даже с приближением премьер Эдит не меняла образа жизни. Только плюс ко всему она еще и работала!
Концертная программа для «Олимпии» была для Эдит очень важна — почти два года она не пела в Париже! Брюно Кокатрикс, и без того недоверчивый и осторожный, наслушавшись злых сплетен, пригласил ее лишь на месяц. Вообще говоря, это было совсем неплохо: месячные контракты он заключал со «звездами», остальные выступали по две недели.
В вечер генеральной мы все были как на горячих угольях. Если Эдит пройдет в «Олимпии» плохо, вся ее дальнейшая карьера окажется под вопросом. До Парижа дошли слухи о гастролях с Пилсом, о выступлениях с Супер-Цирком: «Знаете, с Пиаф все кончено. Она срывает контракты». — «Хорошо бы, разбила себе морду!» Хищники в зале оскалили клыки, но после пятой песни заблеяли как ягнята. В тот вечер Эдит впервые спела «Француженку Мари», «Даму», «Человека на мотоцикле», «Ты знаешь», «Любовники на один день», «Браво, клоун!».
Я довольно давно не слышала ее выступлений. Первая же песня меня захватила, потрясла, перевернула душу. Никогда еще она так не пела.
Голос прилетал как дальний ветер… Когда дует сирокко, он несет с собой горячий песок, обжигающий легкие; он сметает все на своем пути и бросает вам в лицо, как пощечину, раскаленное дыхание пустыни. Голос Эдит был ветром города, он кружился на площадях, прополаскивался в бистро. Он кричал о том, что всюду люди любят: в пригородах, на перекрестках улиц во время случайных встреч, на праздничных гуляньях… Эдит выплескивала на вас жизнь улицы. Протягивая вам на ладони свое сердце, она раздирала вам душу. Ее одинаково воспринимали и напыщенные снобы и простой народ, они не успевали задуматься… В сущности, им было наплевать на слова. Если бы она пела просто «ла-ла-ла» или страницы из телефонного справочника, у вас подкатывал бы такой же комок к горлу.