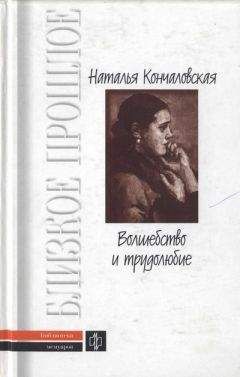Гостиница «Жюль Сезар» — Юлий Цезарь. В медальоне барельеф с профилем великого полководца.
— Мы можем здесь остановиться на ночь, если хочешь, — хитро улыбается Ольга, зная мою неприверженность к гениальному узурпатору.
— Ни за что! — возмущаюсь я. — Лучше просижу всю ночь на каменной скамье какого-нибудь здешнего бульвара!
Мы заглядываем в античный театр с остатками двух колонн по прозвищу «Две вдовы», потом выезжаем на площадь Форума. Там стоит бронзовый памятник поэту Фредерику Мистралю. Знаменитый классик Прованса получил в 1906 году за поэму «Мирей» премию Нобиле, которую он пожертвовал городу Арлю на содержание арлезианского музея — сокровищницы народного провансальского искусства. Памятник был поставлен поэту при жизни, в 1909 году, в 50-летний юбилей его поэмы. Мистралю тогда было семьдесят девять лет. На открытии памятника старик прочел первую строфу своей поэмы, я перевожу ее:
Я девушку Прованса воспеваю,
Там юная любовь ее, живая,
Близ моря, на полях долины Кро, цвела.
Как скромный ученик Гомера, я
Последую за ней, ее хваля,
Ту девушку, простую, как земля,
За грани Кро молва о ней не шла.
Огромная толпа на площади рукоплескала своему кумиру, а женщины-арлезианки просто рыдали от умиления…
У Мистраля была большая заслуга перед Провансом. Он восстановил чудесный старинный его язык, он писал на нем, он давал ему новую жизнь, этому «лангедоку», забытому и искалеченному наносными наречиями. Об этом есть у Доде в «Письмах с моей мельницы» хороший рассказ, так и названный «Мистраль». Мне хочется процитировать конец этого рассказа: «Пока Мистраль читал мне стихи на прекрасном провансальском языке, на три четверти латинском, на котором раньше говорили королевы и который теперь понимают только наши пастухи, я восхищался в душе этим человеком, вспоминая, в каком упадке был его родной язык и что он из него сделал. Я представлял один из тех старинных замков владетельного рода Бо, которые и поныне можно видеть в предгорьях Альп: крыши нет, перил на крыльце нет, стекол в окнах нет, трехлистные пальметки на стрельчатых арках сломаны, герб на воротах изъеден мхом, по парадному двору разгуливают куры, под изящными колонками на галереях валяются свиньи, в часовне, заросшей травой, пасется осел, из больших кропильниц пьют дождевую воду голуби, и среди этих развалин две-три крестьянские семьи устроили себе жилье в недрах старого дворца.
Но вот в один прекрасный день сын такого крестьянина влюбляется в эти величественные развалины, его возмущает их осквернение. Он поспешно прогоняет скот с парадного двора и с помощью фей, пришедших к нему на выручку, отстраивает парадную лестницу, восстанавливает резные украшения, вставляет стекла в окна, воздвигает башни, покрывает заново позолотой тронный зал и ставит на ноги огромный дворец, в котором некогда жили папы и императрицы.
Восстановленный дворец — это провансальский язык.
Сын крестьянина — это Мистраль».
Мы смотрим на памятник Мистралю: он изображен еще молодым, в широкополой шляпе, по которой сейчас разгуливают голуби, и я думаю о том, что не многие мои соотечественники знают этого провансальского Гомера. И тут же, на площади перед памятником, принимаю решение: переведу «Мирей»! Весь этот огромный труд, эту поэму о народе Прованса с его мифами, с его пахарями, виноделами и рыбаками, с его прелестной героиней — девушкой, спаленной солнцем в долине Кро.
И, как всегда бывает, когда найдешь какую-то новую тропу в творческом пути, то наполняешься счастливой бодростью, словно молодеешь, и хочется дышать глубже, и петь, и любить все и всех вокруг, потому что нет радости больше этой.
Трубадуры и святые Марии
Болота, островки, покрытые ржавыми камышами и кустами тамариска, окна мелких озер. Марево над болотами. Табуны диких белых коней, манады черных быков и розовые цапли. Это — Камарга. Она лежит по правую сторону Роны, а по левую — каменистая мистралевская долина Кро.
То тут, то там ярко белеют пастушеские домики, единственные в мире по своей интересной архитектуре: три стены прямоугольника ровные, а четвертая полукруглая, как церковная апсида. А крыша соломенная, настелена рядами, и каждый подстрижен, как украинский парубок.
Здесь живут знаменитые провансальские ковбои — гардианы. Как и положено, они носят сомбреро, узкие светлые брюки с тонким черным лампасом, клетчатые рубашки и черные бархатные куртки. Жены их — красавицы арлезианки. В дни национальных праздников на их темных головках бархатные наколки и кружевные накидки — берты — на плечах. Длинные, широкие юбки шуршат на ветру, когда такая красотка подсядет позади мужа на круп лошади. Экая прелесть эта пара!
Первый городок, который мы проезжаем, — Эг-Морт, в переводе — Мертвая вода. Он, словно мираж на болоте, уже издали поражает своими средневековыми крепостными стенами и башнями. Не верится, что до наших дней дожили такие сооружения. Длиной эта крепость всего пятьсот метров, шириной триста. Стоит она на лагуне, соединяющейся каналом с открытым морем. А построена была королем Людовиком Святым, и отсюда в VIII веке пошли первые крестоносцы в поход на Египет и Тунис. Об этом напоминает памятник Людовику Святому, возведенный эгмортовцами. Король, увенчанный короной, какие мы видим только на карточных королях, стоит в длинном одеянии на ростральном постаменте. Рука его опирается на крестоносный меч, а у ног лежит якорь. Четыре дельфина выпускают из пасти фонтанчики в мраморные чаши с каждой стороны постамента. А внутри крепости нормальный современный городок с комфортабельной гостиницей, магазинами, парикмахерскими, ресторанами.
Мы вылезли из лимузина и отправились поглазеть на городок. Дойдя до собора, узнали, что там свадьба. Я не знаю, пожалуй, ни одной женщины, которой бы не захотелось взглянуть на невесту, и мы вошли в собор. Венчание подходило к концу. Невеста в белом нейлоновом облаке, миниатюрная, но с крупной головой, с греческим лицом киевской богоматери Оранты, все время плакала. Она просто опухла от слез. Это было довольно странно, ибо рядом стоял молодой, тоже похожий на грека, красавец в черном костюме, с лицом торжественным и одухотворенным. Видимо, слезы проливались для приличия. Несколько пар крохотных девочек в длинных белых платьях и с белыми наколками на головках стояли в парах с маленькими гардианами в курточках — это была свита новобрачных.
Почему-то мне все католические обряды кажутся театральным лицедейством. Холодные каменные своды, под которыми отчужденно и жестко переливаются рулады органа, пугающие фигуры святых, часто одетых в живые ткани, сидящие рядами, как у нас на общих собраниях люди, с той разницей, что эти — молчаливы и мрачны. И единственно живое — это полыханье свечей и лучи солнца, пронизывающие стрелами цветные витражи. Меня всегда тянуло к выходу…