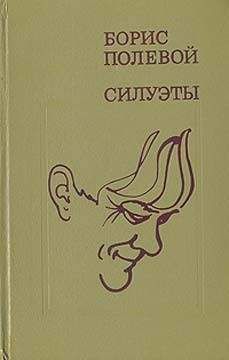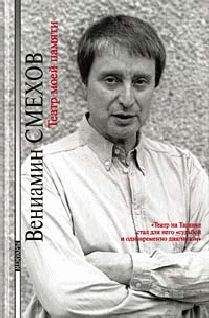— У него там гость, — сообщает он таинственно.
— Кто?
— Не могу сказать. Увидите.
По обледеневшим ходам сообщения двигаемся к командирскому блиндажу. Докладывают. Входим. От карты, лежащей на столе, отрываются две головы: черная, цыгановатая — командира дивизии и седоватая с высоким шишковатым лбом — его гостя. У полководца тяжелый подбородок с продолговатой ямкой поперек. Ну кто теперь не знает мужественное, суровое лицо Г. К. Жукова.
Серые глаза смотрят жестко, но с появлением Фадеева взгляд теплеет, в нем появляется какое-то особое и, видимо, редко свойственное этому лицу выражение.
— А что тут делает автор «Разгрома»?.. Ну, садитесь, садитесь, мы с полковником на карте уже отвоевались. Все обсудили. Сейчас ужинать будем. Воюет он, кажется, неплохо, посмотрим, что у него за кухня.
Кухня тоже, по фронтовым временам, оказывается хорошей. И напитки имеются. Разговор оживляется, и выясняется чисто кинематографическое стечение обстоятельств. Командир дивизии когда-то служил под командованием Жукова, был вахмистром в эскадроне, которым тот командовал, и Фадеев знал их обоих еще в те годы. Старые друзья, старые советские воины, старые большевики. Без кителей, в одних свитерах сидят они трое за столом. А там, где на Руси встретятся три старых друга, без песен не обойдешься.
Выясняется еще одно и совершенно неожиданное обстоятельство для нас. Полководец, оказывается, играет на баяне. Где-то во взводе охраны отыскивается старенький инструмент. Пальцы Жукова делают молниеносную пробежку по ладам, широко разведены мехи. Возникает тихая, задумчивая, печальная мелодия. Два голоса, тонкий фадеевский тенор и хрипловатый баритон полководца, переплетаясь, обгоняя один другого, заводят песню:
…Позарастали стежки-дорожки,
Где проходили милого ножки.
И когда дело подходит к припеву, сквозь тихую и задумчивую музыку к ним присоединяется бас командира дивизии:
Позарастали мохом-травою,
Где мы гуляли, милый, с тобою.
Грустит баян. Три голоса ведут задумчивую, печальную мелодию о разлуке, о несчастной любви, о девичьем горе. Согласно, дружно поют знаменитый писатель, славный полководец и командир дивизии, которой с рассветом надлежит развернуть решающий штурм осажденного города. А там, за скрипучей, прикрытой плащ-палаткой дверью, обдуваемая северным ветром, освещенная луной, затаилась высота Воробецкая, как муравейник изрезанная ходами и переходами, ощетинившаяся в сторону крепости стволами пушек.
Фырчат моторы, лязгают гусеницы.
Войска сосредоточиваются для штурма.
ОТ НАШЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО.
Утром парламентеры, ходившие в крепость с белым флагом, вернулись ни с чем: предложение о капитуляции отвергнуто. Загрохотала артиллерия. Из-за холмов рванулись и полетели к крепости реактивные снаряды — и те, что зовутся в войсках «катюшами», и покрупнее, что летят с разбойным свистом и именуются «Иван-долбаями», и совсем уже крупные, добродушно названные солдатами так, что в тексте это наименование воспроизвести нельзя. Все это обрушивается на крепость. Земля дрожит под ногами. На Ловати лопается лед, и трещины затекают зеленой водой…
Горячий, интересный материал, но связь ни к черту. Под вечер мне все же удается послать с офицером связи, направляющимся в штаб армии, короткую, тут же набросанную корреспонденцию о наших делах. Когда офицер уезжал, или, вернее, уходил, ибо ехать отсюда нельзя, Фадеев, все эти дни поглощенный сбором материалов, ничего не смог послать с ним на телеграф. Он очень этим огорчился. Молоденький офицер, который, конечно, тоже оказался одним из поклонников «Разгрома», видя, как расстроился любимый писатель, утешил его, заявив, что вечером он вернется, а утром снова пойдет в армию, захватит фадеевскую корреспонденцию, зайдет на телеграф, позаботится, чтобы она скорее прошла.
На ночлег мы устраиваемся в блиндажике наблюдательного пункта артиллеристов, откуда только что вынесены трупы неприятельских солдат, погибших при его обороне. Вынесли три ведра стреляных гильз. Кое-как завесили плащ-палаткой дыру в развороченном нашим снарядом накатнике… Ничего, выспаться можно.
Я с Евновичем и корреспондентом «Комсомольской правды» Крушинским залезаю на нары, а Фадеев, соорудив себе сиденье из патронных цинков, пристроился в углу и разложил бумагу на ящике из-под мин. Усевшись, он размашисто написал: «От нашего специального корреспондента» — и задумался, вертя карандаш, постукивая им по зубам.
Посреди ночи мы просыпаемся не от выстрелов — от голосов. В блиндаже идет крупный разговор. Неведомо как и почему попавший сюда полковник Кроник распекает за что-то артиллерийского командира. Вижу знакомых офицеров из его штаба. Должно быть, пока мы спали, полковник тоже перетащил свой НП сюда. Но это нас не касается. В углу, переломившись пополам, все так же склоняется над ящиком фигура Фадеева. Лицо у него сосредоточенное, самозабвенное, губы что-то шепчут, пальцы шевелятся, как бы взвешивая нечто невидимое. Потом он хватает карандаш и быстро пишет, пишет без остановки.
Снова просыпаюсь, на этот раз уже от толчка, и долго не могу понять, что случилось. Все помещение заволочено пылью и дымом. Ага, влепили куда-то близко! Разрывы грохочут рядом. Когда настает тишина, слышно урчание удаляющихся самолетов.
— Освежают, — мрачно поясняет корреспондент «Красной звезды» майор Арапов, лежащий со мной рядом, и с головой укрывается шинелью.
Потом грохот и гул моторов стихают. Серый рассвет просачивается в окно блиндажа. На полу куски сухой глины, осколки битого стекла, валяется опрокинутая печурка. Старый солдат собирает разбросанные коптящие головешки. А в углу все та же склонившаяся фигура Фадеева. На ящике стопка крупно исписанных листков, а он все еще пишет. Разогнет спину, пошевелит затекшими от карандаша пальцами и сейчас же склоняется к бумаге, что-то про себя бормоча и даже жестикулируя иногда левой рукой. Старый солдат, собирающий головешки, смотрит на него, ухмыляется, качая головой.
БАЛ В «БЕЛОМ ДОМЕ»
В свое временное жилье, в «Белый дом» мы возвращаемся поздно. И первое, что поражает нас на пороге, — это необычайная тишина, нарушаемая лишь воем огня в печурке да шелестом сухого снега о стекло. Нам, пришедшим с мороза, молча уступают место у огня и, поддавшись общему настроению, мы тоже молчим, протянув к теплу окоченевшие руки. Мягко ступая валенками, Фадеев молча расхаживает по комнате. О чем он думает? Может быть, тоже о своих, о жене и сыне, обитающих в эвакуации? Может быть, о великолукском найденыше, который все эти дни не выходит у него из ума? Грустная тишина начинает навевать дрему.