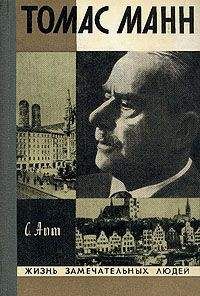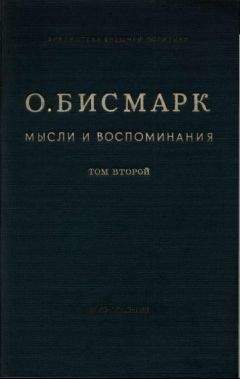29 января 1947 года из Пасифик Пэлисейдз в Нью-Йорк ушла телеграмма: «Пусть достославное дитя знает что печальная история адриана леверкюна сегодня полностью доведена до счастливого конца без подписи». Так сообщил Томас Манн дочери Эрике о завершении «Фаустуса». «29-го утром, — читаем мы в авторском рассказе об этой работе, — я написал последние строки «Доктора Фаустуса» — ту тихую, проникновенную молитву Цейтблома за друга и за отечество, которая уже давно мне слышалась, — и мысленно перенесся через три года и восемь месяцев, прожитых мною под напряжением этой книги, в то майское утро, когда я в самом разгаре войны взялся за перо. «Я кончил», — сказал я жене, приехавшей за мной на автомобиле, чтобы отвезти меня домой после обычной моей прогулки по берегу океана; и она, преданно дожидавшаяся и дождавшаяся вместе со мною уже стольких свершений, — как горячо поздравила она меня! «По праву ли?» — спрашивает дневник. И прибавляет: «Признаю нравственное достижение».
Его потребность отметить и запечатлеть этот день, так ясно заявляющая о себе в телеграмме дочери и придающая такое патетическое звучание строкам о встрече с женой после прогулки, тем естественней и понятней, что, кроме связанного для него вообще с работой, кроме особого напряжения «резюме жизни», «книги сердца», которая писалась к тому же в годы величайших мировых потрясений и была ими рождена, ему пришлось, чтобы завершить «Фаустуса», выдержать и особое личное испытание. Не потому ли он в тот день возвращался с прогулки на машине, что на обратный путь к лимонно-пальмовому саду, в котором стоял его калифорнийский дом, у нашего, вступившего в восьмой десяток героя просто недоставало сил? «У меня отняли ребро, так же не спрашивая моего разрешения, как бог Адамова. Только вот Евочки из моего ребра не получилось». Тяжелая болезнь, потребовавшая удаления одного легкого, которую он перенес в начале 1946 года, представлялась ему связанной с этой работой. Нет, он не считал, что «самая сумасшедшая» его книга (его слова о «Фаустусе») навеяна болезнью, то есть что болезнь парадоксальным образом повысила его продуктивность и наложила какую-то свою окраску на его продукцию, и не объяснял, наоборот, свое заболевание огромной затратой сил на эту работу. Связь для него состояла в том, что на болезнь свою он смотрел, как на испытание своей жизнестойкости, как на проверку своей воли к завершению начатого труда и чуть ли не жизнестойкости самого этого труда, то есть как на некое нравственное испытание, так что вернее даже будет сказать, что не болезнь ставил он в связь с «Доктором Фаустусом», а выздоровление от болезни.
«Признаю нравственное достижение» — эти слова были не литературоведческой оценкой романа. Сравним их с письмами, которые он писал, едва оправившись от операции, когда оставалась еще добрая треть работы над «Фаустусом»: «Все это неожиданное приключение я перенес хоть и без заслуживающих того, чтобы ими делиться, мыслей, но с серьезным вниманием, и если смотреть на это приключение как на проверку годности, могу быть доволен собой». Еще: «...Я находился здесь в очень хороших руках... Впрочем, на помощь помощникам пришла моя терпеливая и полная доброй воли природа». И еще: «Высокое врачебное искусство и техника максимально помогли мне выдержать это позднее испытание. Но, конечно, добрая воля и терпеливость моей природы пошли им навстречу, что и привело к почти сенсационному клиническому успеху... не каждый тридцатилетний пройдет через подобное приключение с таким спокойствием духа...» В словах о «нравственном достижении» была, кажется нам, удовлетворенная оглядка старика на пройденный им путь самовоспитания и закалки, среди прочего и на те далекие годы, когда он «ни во что не ставил себя как человека и хотел, чтобы его принимали во внимание только как художника», и на ту трудную зиму, когда такое отделение достоинства художника от человеческого достоинства, от ответственности художника перед жизнью и обществом чуть не привело его, Томаса Манна, к самоубийству...
Через три с половиной месяца после телеграммы об окончании «печальной истории Адриана Леверкюна» он поднялся на борт английского судна «Королева Елизавета», отправлявшегося в рейс Нью-Йорк—Саутгемптон.
Лежа в палате цюрихского кантонального госпиталя, которую ему так и не привелось покинуть живым, он читал английскую книгу под названием «Summing Up» — «Подводя итоги» Сомерсета Моэма. Трудно найти слова, способные точней и короче, чем этот заголовок, случайно оказавшийся в ряду последних его впечатлений, определить общий тонус той полосы его жизни, что началась теперь, с завершением «Доктора Фаустуса», в дни первой после войны поездки в Европу, и кончилась в фатальной палате.
Даже на чисто внешней стороне тут лежит печать подведения итогов, суммирующих прожитое, повторений, финала, замыкания круга. За несколько дней до того, как он известил Эрику о «счастливом конце печальной истории», ему сообщили из Бонна о восстановлении его почетного докторства. В том же году он остановился в Цюрихе в гостинице, где жил во время своего свадебного путешествия, в том же году он читал там главы из «Фаустуса» с той самой сцены, с которой восемь лет назад выступал с чтением отрывков из «Лотты». Тогда же и там же он встретился с младшим братом, остававшимся все это время в Германии. Через два года, в 1949-м, он впервые после шестнадцатилетней разлуки ступил на немецкую землю, и поводом для этого свидания с ней, для обращения к соотечественникам в обеих ее частях, западной и восточной, было двухсотлетие со дня рождения Гёте, подобно тому как столетие со дня смерти Гёте было поводом для его, Томаса Манна, поездки по Германии в 1932 году. И Мюнхен он снова увидел в этот приезд, и его чествовали там в том же здании ратуши, где когда-то его поздравляли с пятидесятилетием. Правда, на Пошингерштрассе он предпочел не заглядывать... В 1953-м он побывал в Палестрине, где начал, совсем еще юношей, «Будденброков», и в Любеке, и даже в Травемюнде — в своем детском, приморском «каникулярном раю». И пятидесятилетие со дня выхода «Будденброков», и его собственное семидесятипятилетие, и дата «золотой свадьбы», когда его цюрихский дом заполнили съехавшиеся из разных городов и стран дети и внуки, и, наконец, его восьмидесятилетие, праздники уже сами по себе, ввиду сроков человеческой жизни, итоговые, подчеркивающие близость завершения круга и заставляющие виновника торжества оглянуться на прошлое, вспомнить далекое и поверить его своим нынешним, убывающим дням, — все эти внешние вехи жизненного пути тоже приходятся на полосу между «Королевой Елизаветой» и последней палатой. И перед самой почти кончиной он опять побывал в обеих частях родины, и поводом к последнему его «представительству» снова было событие общегерманского, а то и мирового значения — стопятидесятая годовщина смерти Шиллера, — того единственного, чье имя в памяти потомства навсегда составило пару с именем Гёте. И знаков внимания, знаков признательности мира выпало на долю Томаса Манна в эту позднюю его пору столько, сколько никогда, пожалуй, не выпадало в прошлом и сколько вообще мало кому достается при жизни. Магистраты, в том числе любекский, чествовали его званием почетного гражданина, а учебные заведения — почетного доктора, правительства награждали его орденами, ему присуждались самые высокие и редкие литературные премии; Джавахарлал Неру, находясь в Сан-Франциско, пригласил его, чтобы познакомиться и побеседовать с ним, папа римский и нидерландская королева почли за честь для себя незамедлительно принять его, стоило лишь ему намекнуть на свой интерес к этим аудиенциям.