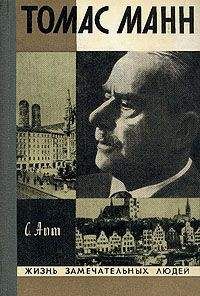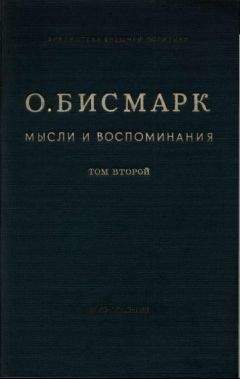Доклад «Германия и немцы» он предварил замечанием, что «истины, которые пытаешься высказать о своем народе, могут быть лишь результатом самопроверки». Он вспомнил Любек, он нарисовал картину родного города, где печать средневековья лежала на камнях и на иных лицах, он говорил об абстрактном и мистическом, или, иначе, «музыкальном» отношении немца к миру, о немецкой «самоуглубленности» как о разрыве между «спекулятивной и общественно-политической стихией» и как о преобладании у немцев первой над второй о том, что отвратительный миру немецкий национализм есть историческое порождение этой аполитичной «самоуглубленности», давшей миру, с другой стороны, прекрасные образцы искусства и научного знания. Нужно ли снова напоминать читателю о «Размышлениях аполитичного», «Волшебной горе», «Лотте в Веймаре», нужно ли разъяснять, как много личного, как много «самопроверки», мы чуть не сказали «самоуглубленности», было в таком почти психоаналитическом подходе к проблеме Германии? Вывод, которым он заканчивал этот обзор немецкой — и своей собственной — духовной истории был такой: «Нет двух Германий, доброй и злой... Злая Германия — это и есть добрая, пошедшая по ложному пути, попавшая в беду, погрязшая в преступлениях и стоящая теперь перед катастрофой. Вот почему для человека, родившегося немцем, невозможно начисто отречься от злой Германии, отягощенной исторической виной, и заявить: «Я — добрая, благородная, справедливая Германия; смотрите, на мне белоснежное платье. А злую я отдаю вам на растерзание». Все, что я говорил вам о Германии или хотя бы бегло пытался объяснить, идет не от отчужденного, не от холодного, беспристрастного знания; это есть и во мне, все это я испытал на себе».
С докладом «Германия и немцы» связаны два замечания автора «Доктора Фаустуса», касающиеся как раз той особенности романа, на которой мы только и намерены остановиться, рассказывая здесь об этой начатой и завершенной в Америке работе, — даже мало-мальски подробный разбор ее безнадежно деформировал бы наш жизнеописательный очерк. Впрочем, некоторых аспектов этой знаменитой, «итоговой» книги Томаса Манна мы уже невольно касались, имена ее героев, композитора Адриана Леверкюна и его друга Серенуса Цейтблома, щедро наделенных автором собственными чертами характера, привычками, пристрастиями, суждениями и тревогами, не раз уже проникали на наши страницы, а иные из этих биографических страниц, хоть и не содержали ссылок на роман, во многом обязаны отбором изложенных на них фактов, своими ассоциациями тому же, прихотливо переплавившему житейский и духовный опыт нашего героя «Фаустусу».
«Легенда и поэма Гёте, — сказал Томас Манн в вашингтонском докладе, — не связывают Фауста с музыкой, и это большая ошибка. Ему надо бы быть музыкальным, быть музыкантом... если он должен быть представителем немецкой души; ибо абстрактно и мистично, то есть музыкально, отношение немца к миру, это отношение педантичного, но со слабостью к демонизму профессора, неловкого, но высокомерно убежденного в том, что он «глубиной» превосходит мир». А вскоре после того как доклад был прочитан, он в одном из писем сопроводил краткое его резюме замечанием, что «сделка с чертом — искушение глубоко старонемецкое, и темой немецкого романа, рожденного страданиями последних лет, страданием из-за Германии, должен быть этот ужасный сговор».
Главный герой «Доктора Фаустуса», Адриан Леверкюн — музыкант, композитор. Есть в романе и «сделка с чертом» — таковой предстает здесь сатанинский релятивизм искусства Леверкюна, его «холод», его отказ петь «уродливую политическую песню». Есть и «педантичный, но со слабостью к демонизму профессор» — друг и восторженный почитатель Леверкюна Цейтблом. Совершенно ясно, что именно это свое произведение и имел в виду автор, говоря о романе, «рожденном страданием из-за Германии», о романе «немецкой души».
Но не автобиографическое ли это снова произведение — как «Будденброки», как «Тонио Крегер», как рассказ «У пророка»? Разве не повторяет почти дословно описание родины Леверкюна, города Кайзерсашерна, описания Любека в американском докладе, или наоборот? Разве не напоминают обращенные к Леверкюну слова черта: «Найдись у тебя мужество сказать себе: «Где я, там Кайзерсашерн», все сразу стало бы на свои места», слова, которые, по свидетельству Генриха Манна, произнес его брат, переселившись в Соединенные Штаты: «Где я, там и немецкая культура»? Разве не называл наш герой собственное искусство «музыкой», «музицированием»? А изображенные под именем сенаторши Родде и ее дочери Клариссы мать писателя и его сестра Карла, да только ли они? — нет, кажется, в романе ни одного персонажа, вплоть до третьестепенных, за которыми бы более или менее легко не угадывался прототип — и всегда из числа тех, с кем сталкивала нашего героя жизнь. А фигурирующие в романе под подлинными своими именами итальянский городок Палестрина, мюнхенские улицы, дирижер Бруно Вальтер? Да, конечно, по насыщенности автобиографическим материалом «Доктор Фаустус», написанный в старости, даже превосходил все прежние создания своего автора, он был в этом смысле не только продолжением давней и постоянной исповедальной линии творчества, но и ее итоговым расширением. «Книга моего сердца», «резюме моей жизни», «почти преступно беспощадная повесть о жизни, странный род иносказательной автобиографии, произведение, стоившее мне больше и истощившее меня сильнее, чем любое прежнее» — это все высказывания о «Фаустусе» самого автора.
Что автобиография тут иносказательная, что личные воспоминания, то, что называется «люди, годы, жизнь», сплавлены в романе с материалом неличным, с вымыслом, с заимствованными из самых разных источников ситуациями, что, например, прототипом болезни Леверкюна служит болезнь Ницше, что мотив избегающей встреч с композитором поклонницы восходит к соответствующему эпизоду биографии Чайковского, или, например, что тема любовного треугольника в «Фаустусе» взята из сонетов Шекспира и т. п., — в этом тоже не было ничего принципиально нового для творчества писателя, который широко применил технику подобного монтажа уже в «Будденброках», а в «Королевском высочестве» облек рассказ о себе в форму утопической сказки со счастливым концом.
Привычно преемственным при взгляде на прежние книги Томаса Манна кажется и его обращение в «Фаустусе» к теме искусства. Людьми искусства были главные персонажи «Тристана», «Тонио Крегера», «Смерти в Венеции», а Феликса Круля и библейского Иосифа их авантюризм, их саморазрушительная подчас увлеченность игрой, то есть свойства, неотъемлемость которых от артистизма всегда занимала нашего героя, роднили с художниками.