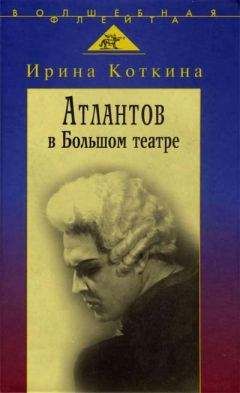И вот они слушали соловьев. К двум неугомонным певцам присоединился было третий, но вскоре смолк. Наверное, то был молодой, начинающий соловей, и он понял, что не смеет состязаться с мастерами. Два соловья из двух противоположных углов сада, не заметив короткой помехи, продолжали безуступчивый поединок. Бой был звонче у соловья за сиренями и дробь рассыпчатей; тот же, что скрывался в ракитнике, превосходил соперника в других коленах: переливе, прищепке лешего, дудке… Но даже собравшимся здесь музыкальным профессионалам вскоре расхотелось сравнивать певцов, лучше было, не мудрствуя, отдаться очарованию вечной, как мир, песни любви.
Соловьи замолкли враз, словно исчерпав аргументы. Была пронзительная тишина, а потом Лемешев сказал с легким вздохом:
— Соловьи стали хуже петь.
Все рассмеялись. Остроту создало слияние парадоксального утверждения с интонацией истинной грусти. Но потом случилась заминка — Лемешев и не думал шутить. Он был здесь, впрочем, как и в любой компании, самым знаменитым, самым любимым и чтимым, с его настроением считались. Смех умолк, погасли улыбки. Все же присутствующие были достаточно значительны и независимы, чтобы не подчиняться чужому мнению. Бывший премьер оперетты сказал: «В молодости все лучше: и соловьи звонче, и звезды ярче, и женщины красивей». А маститый концертмейстер добавил: «И дни длиннее, а версты короче». Ближайший друг Лемешева, прославленный дирижер, сказал задумчиво: «Портится не окружающее, а мы сами — от лет, усталости, ослабления чувства жизни. Одного тебя, Сережа, неизбежное обошло стороной. Как странно, что именно ты сказал это о соловьях». — «Друзья! — воскликнула пожилая певица. — Мы не поняли иносказанья. Сергей Яковлевич имел в виду других соловьев, они в самом деле поют хуже, чем мы когда-то». — «Зачем уж так уж?!» — вскинулся на защиту сверстников молодой даровитый композитор.
— Нет, — чуть поморщился Лемешев. — Я говорил о соловьях, которые только что пели. Они не сияли, как соловьи наших дней…
А через два дня с утра зарядил дождь. Сидели по комнатам, читали, слушали радио. И в передаче «Наедине с природой» профессор-орнитолог сказал, что сейчас, когда город стремительно наступает на природу, соловьи стали петь хуже. И проиллюстрировал это записями на пленке. Среди тех, кто слушал соловьев в вечернем саду, были прославленный дирижер, талантливый композитор, бывший премьер оперетты, певица, маститый концертмейстер, но лишь безошибочный соловьиный слух старого соловья распознал в весенних трелях соловьиную беду.
И все же он не поддался старости, до последнего дня жизни оставался молод, светел душой и удивительно красив.
Бывший премьер московской оперетты и одаренный композитор Алексей Феона — кто не помнит его в роли дерзкого красавца Юрия Токмакова! — рассказывал о споре, возникшем у него с Лемешевым из-за написанного им романса «Нищий» на слова Лермонтова:
У врат обители святой
Стоял просящий подаянья
Бедняк, иссохший, чуть живой
От глада, жажды и страданья.
Куска лишь хлеба он просил,
И взор являл живую муку,
И кто-то камень положил
В его протянутую руку.
Так я молил твоей любви
С слезами горькими, с тоскою;
Так чувства лучшие мои
Обмануты навек тобою!
Феона всю жизнь поклонялся Лемешеву. Вначале издалека, потом шапочное знакомство перешло в крепкую и верную дружбу. Конечно, ему очень хотелось, чтобы Лемешев спел «У врат обители святой», но по деликатности он не решался просить об этом. Лемешев сам «вышел» на романс и исполнил его в концерте. Феона был в восторге. Но когда спустя много лет они вместе прослушали магнитофонную запись, Лемешев омрачился.
— Вам разонравился мой романс? — огорченно спросил Феона.
— Мне разонравился я сам, — мрачно прозвучало в ответ.
— Бросьте Бога гневить! Как вы поете!..
— Первые два куплета, — подхватил Лемешев, — а последний — мертвечина.
Феона поставил запись снова.
— По-моему, гениально! Это не я написал, а Господь Бог, — сказал он со смехом.
— Я не справился с третьим куплетом. Я ему не верю.
— Не верите музыке?
— Нет, словам. Не верю Лермонтову. Не мог он молить о любви, как жалкий нищий.
— Смысл в другом: столкновение сильного чувства с каменным холодом.
— Просить у женщины любви «с слезами горькими, с тоскою»! — гнул свое Лемешев. — Понятно, что у меня сразу скис голос.
— Я этого не чувствую, — заметил Феона. — Но можно переписать последний куплет…
— Пустое! Весь мой жизненный опыт восстает против такого унижения мужчины. Нельзя нищенствовать в любви.
Феона посмотрел на синеглазого Орфея, обманувшего время, и понял, что его друга не переубедишь. Видимо, у Сергея Яковлевича и Михаила Юрьевича было тут безнадежное несовпадение.
И вот в чем я окончательно убедился, пока писал эти свои заметки: тембр — это не окраска голоса, это окраска души. Нам пела прекрасная душа Лемешева. О нем нельзя говорить «тенор» и даже «певец» — это сердце России, ставшее песней, и в этом его бессмертие.