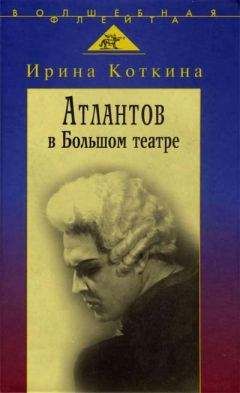Я помню, как Лемешев пел песенку на слова Беранже о старушке, которая, хмелея, рассказывает внукам историю своей жизни. Он пел ее почти шепотом, но этот шепот никому не перекричать, так он был человечен, безмерно трогателен, добр и мудр. И как лился, струился мягкий, доведенный до последней нежности голос, который оставался при этом голосом мужчины, не подражающего доброй подвыпившей старушке, а повествующего о ней проникновенно, но без слиянности, что было бы дурным тоном.
Лемешев всегда умел сохранять известную дистанцию между собой исполнителем и героями песен, чтобы при максимальном сближении с чужим внутренним миром не скатиться в имитацию. Когда один из лучших довоенных певцов пел бетховенскую «Застольную», он придавал словам «Да жаль, что с воды меня рвет» почти физиологическое правдоподобие. Соблазн удивить публику «химией», будь это фантастически звучащая верхняя нота или… имитация рвоты, велик у певцов. Нужна не просто честность, но некая бесхитростность очарованной музыкой души, чтобы никогда не прибегать к подобным эффектам. Язык не поворачивается ставить это Лемешеву в заслугу, он ничего не преодолевал в себе, просто оставался таким, каким был задуман природой.
Из этого вовсе не следует, что Лемешев пел всегда тихо и, подобно гамсуновскому страннику, играл только под сурдинку. Да ничуть! Сколько сдержанной страсти вкладывал он в романс Ф. Листа «Как наяву ждал Лауру Петрарка», где гений европейского романтизма, возгоревшийся от чистого, светлого, но не обжигающего пламени гения раннего Возрождения, создал странную тайну, прочитанную одним Лемешевым. Я не помню этого эмоционального, предельно сложного романса в репертуаре наших певцов. А как разливисто, лукаво и широко пел Лемешев очаровательный романс Бизе «День вешний сиял»! А рахманиновские «Весенние воды», которые, в отличие от породившего их чисто пейзажного стихотворения Тютчева, обрели на сломе века бурлящую мощь общественной надежды и протеста, он пел неистово, вдохновенно, во весь голос, но без малейшего самолюбования.
Музыка, как и все искусства, — что стало особенно ясно после краха модернизма, — это разговор человека с человеком, средство общения, преодоление мировой немоты. С. Я. Лемешев был замечательным, редким собеседником, он научил меня слушать вокальную музыку глубже, дальше, порой вне слов, и будто вручил ключи от новой Вселенной. Словесный ряд был устранен, как прежде изобразительный, и я остался с музыкой один на один.
Теперь я уже знал, что музыка и исполнение могут чудесно вознести весьма посредственные, даже ничтожные слова. Вот почему П. И. Чайковский был столь нетребователен к текстам своих романсов и равнодушно выслушивал упреки доброго и безжалостного друга Лароша, что он «самый некультурный композитор в мире». А ведь и в самом деле удивительно: Чайковский создал свои лучшие оперы по пушкинским произведениям: «Пиковая дама», «Евгений Онегин», «Мазепа», а из ста (!) его романсов широко известен лишь один на слова Пушкина — «Соловей». Но композитор охотно писал на слова не столь крупного поэта А. К. Толстого, совсем небольшого — Апухтина и вовсе слабого К. Р. Но если «Средь шумного бала» — один из лучших романсов Петра Ильича — обладает несомненными достоинствами поэзии, то другой знаменитый романс, «Страшная минута», по тексту ниже всякой критики. А как поет Лемешев эти ничтожные слова — аж мороз по коже! Музыка и певец превращают стекляшки в алмазы. Может быть, Чайковский утверждал таким способом примат музыки над словами, доказывал ее превосходство над бедной человеческой речью? Сильные, яркие, самодовлеющие слова ему просто мешали. Будем честны: лучшее, высшее у Пушкина, как лучшее у Тютчева, Лермонтова, Фета, так и не стало музыкой. «Второй ряд» поэзии этих гигантов обрел музыкальную жизнь, но вы не найдете там «Брожу ли я вдоль улиц шумных», «Ангела», «Я, Матерь Божия», «Когда на склоне наших лет», «В душе, измученной годами» и многое другое. Но как щедро «озвучен» малопродуктивный Дельвиг, сколько романсов и песен на слова А. Толстого, Полонского, Плещеева, Апухтина, Минаева и поэтов вовсе канувших.
Но я отклонился в сторону. Самым сильным художественным впечатлением за последнее время стало для меня исполнение Лемешевым романса Глинки «Желание». То ли я каким-то образом пропустил его прежде, то ли не сумел услышать. На недавно выпущенной пластинке в скобках указано: «подражание Романьи». Установить личность вдохновителя Глинки мне не удалось, автора слов — тоже. Но такая любовь, тоска, боль, тревога, трепет, что-то еще, чисто лемешевское, неопределимое в словах, надрывает грудь певца, что, слушая раз за разом этот романс — а он стал для меня душевным и даже физическим подспорьем в нынешнюю трудную, слякотную, не дающую дыхания зиму (по-моему, я выжил лишь благодаря глинковско-лемешевскому «Желанию»), — естественно, не сомневался в высоком качестве стихотворного текста. И вдруг, проборматывая про себя навязшие в зубах слова, я поразился набору красивых банальностей, хотя и слаженных не без ловкости. Противоядие было в одном: еще раз поставить пластинку и прослушать романс — все разом вернулось: красота, печаль, тайна.
Лемешев возносит не только слова, но и музыку. Кто относился серьезно к коротенькому романсу-полушутке А. Титова «Я знал ее малым ребенком» на слова Д. Минаева? Крупный поэт-сатирик и видный переводчик, Минаев отличался завидной легкостью пера и мог сыпать поэтическими шутками, альбомными стишками, улыбчивыми миниатюрами. Опытного и одаренного поэта выдает в этом романсе лишь умелая «драматургия» стихотворения, где в два куплета вложена целая жизнь. Но когда уже пожилой Лемешев пел этот коротенький романс, в зале плакали. И я, тоже пожилой и седой, слушая наедине романс-вздох, плачу о так незаметно промелькнувшей жизни. Но запой это кто-то другой, в лучшем случае — усмехнешься, в худшем — плюнешь. Истинный шедевр Лемешев сделал из детской песенки «Лизочек», да ведь это не уступает сказочной поэзии Андерсена. Лемешев превращал в золото все, к чему прикасался.
Можно написать исследование о том, как пел Лемешев ямщицкие песни. Целая эпоха нашей жизни была окрашена трагическим взрыдом: «Когда я на почте служил ямщиком», после фильма-концерта полилась неясной радостью «Еду, еду, еду к ней», и по контрасту тем больнее ударили в душу «Вороные удалые». Затем прозвучали песни лихача Кудрявича на слова Кольцова, и, по-моему, уже после войны он запел — и как запел! — гурилевскую: «Знать, уж мне не видать прежней светлой доли». Какое богатство интонаций было во всех этих столь разных песнях! Как чувствовал Лемешев русскую дорогу, ее призыв и ее тоску, надежду и отчаяние слишком долго находящегося в пути, горячее, потное тело коня, слиянность земли и неба. Но чему же тут удивляться, коли речь идет о бывшем крестьянине и звонком кавалеристе?!
Не в силах выразить своего ошеломления перед тем или иным явлением искусства, мы охотно прибегаем к таким словам, как «волшебство», «колдовство», «маг», «кудесник» и т. п. Но совестно применять все эти слова к Лемешеву, поющему русские песни. Тут пленяет не чудо-действо, а полная естественность; кажется, что не слышные нашему уху песни, разлитые в бескрайнем российском пространстве, проходят сквозь грудь певца и без всякого усилия с его стороны возвращаются назад, очищенные и озвонченные. Конечно, это не так, за каждой песней скрывался огромный профессиональный труд. Но есть и другое: зачинались все эти песни на завалинке крайнего дома деревни Старое Князево, где Лемешев певал их со своей матерью Акулиной Сергеевной и удивительно голосистой теткой по отцу Алисой, прожившей до восьмидесяти лет и до последнего дня певшей. Здесь закладывалось основное, то, что сделало Лемешева богом русской народной песни, а уж потом начиналась работа — долгая, изнурительная, выматывающая певца и ничуть не ощущавшаяся слушателями. Лемешев никогда не замучивал песню, сохранял в ней первозданную естественность деревенских вечерних посиделок.
Но сколько бы ни говорил я о впечатлении, которое производили те или иные арии, романсы, песни в исполнении Лемешева на мою сперва детскую, потом юношескую, потом зрелую и, наконец, старую душу, сколько б ни распинался по поводу того, что он открыл мне музыку, намертво привязал к Чайковскому (это сыграло впоследствии заметную роль в моей литературной жизни), даже если я скажу, что им, Лемешевым, взращено и укреплено во мне святое чувство Родины, о которой он пел с такой проникновенной любовью, я все же не исчерпаю темы влияния певца на мою жизнь, ибо что-то тонкое и важное останется недосказанным. Это принадлежит державе нравственности. В Лемешеве — я говорю о его главном художественном образе — было нечто столь благородное, очищающее, естественное, что находившийся постоянно возле его искусства человек становился и сам лучше, добрее, духовнее, светлее. Его сияющий голос изгонял из моей души бесов зла, обиды, житейской мелкости, вырывал из тины обыденщины, открывал новые ресурсы сострадания, прощения, готовности поступиться своим благом ради других. Если б не Лемешев, я и сам был бы хуже, и хуже было бы со мной другим людям.