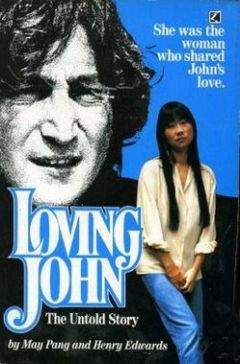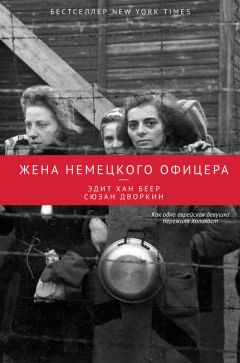Все пили чай в саду. Я делала уроки и слышала, как смеялся кузен Джон. Его смех так гремел, что я закрыла окно. Прежде чем пойти спать, я обошла всех, желая каждому «спокойной ночи», — всем, кроме кузена Джона. Я вдруг решила не делать перед ним книксен, а только протянула руку.
Не сомневаюсь, что все обрадовались, когда он уехал. После него кругом был пепел, пепельницы полны окурков, его рубашки защитного цвета плавали в большом тазу, в мутной воде с кусочками зеленого мыла. Я ткнула пальцем в пузырящиеся спину и рукава и неожиданно поняла: их пошлют кузену Джону на фронт. Идея показалась такой идиотской, что я убежала в любимое местечко на чердаке, свернулась калачиком и, полная отчаяния, плакала о кузене Джоне, о рубашках защитного цвета, об окопах, о пакетах с подарками, посланных женами, которые измучены ожиданием, которые просто устали надеяться и ждать.
О войнах я знала из учебников истории. Я запомнила их причины, даты их начала и их конца. Война, которую я переживала сейчас, была для меня чем-то непонятным до того самого момента, пока настоящий солдат с фронта не вошел в наш дом, принеся с собой запах окопов, запах войны. Опасность, которой он подвергался и в которую снова ушел, поцелуй, который я ощущала до сих пор, его рубашки защитного цвета и сознание того, что он, наверное, никогда больше не вернется — все это позволило мне ясно почувствовать, что такое война. После его отъезда эта атмосфера оставалась с нами, нам все еще слышалось эхо его медленных шагов в гостиной. Мне казалось, что до этого часа я жила в каком-то тумане. Я лежала на сундуке и горько плакала.
«Я плачу о войне», — сказала я маме, склонившейся надо мной. Она приподняла меня и, тесно прижав к себе, произнесла: «Война скоро закончится». В темноте я не могла разглядеть ее лица, но по голосу поняла, что она улыбалась.
Одной из моих любимых пьес, которые я играла на скрипке, была «Серенада» Тозелли. Мама любила слушать мою игру. Иногда она делала это просто подходя к двери, иногда входила в комнату, садилась за рояль и аккомпанировала мне. Я наказала себя и, как мне ни трудно было, решила, что до окончания войны «Серенаду» играть не буду. Вместо нее я играла «Колыбельную» Гуно. Чем сентиментальнее были мелодии, тем больше они нравились мне. Но моя учительница их вовсе не любила, они были для нее табу.
Я разучивала их сама, ни с кем не советуясь, давая им свою собственную интерпретацию, подчас полную сладчайшей меланхолии. Мне говорили, что у меня особый дар, особый талант к игре на скрипке. Для мамы это было величайшей радостью, и она хвалила меня за малейший успех. Я с удовольствием играла на скрипке, мне нравилось жалобное звучание струн, но монотонные экзерсисы играть не хотелось. Рояль — другое дело. Мой педагог по фортепьяно любила Шопена, Брамса и многих других известных и неизвестных композиторов. Правда, одних известных было вполне достаточно, чтобы заполнить часы занятий. Свободное время я проводила за упражнениями. На фортепьяно они намного легче, чем на скрипке. Дотрагиваясь до клавиш, чувствуешь, что звучание точное, не фальшивое. А когда играешь на скрипке, постоянно испытываешь страх, что звук окажется фальшивым.
Чистота звучания рояля зависит от точности настройки, от строя инструмента, а не от музыканта, играющего на нем. Чистота звучания скрипки зависит больше всего от исполнителя. Легчайшее нажатие пальца может полностью изменить точность звука. Я допускала мысль, что могла бы стать профессиональной пианисткой. Но не могла представить себя в роли профессиональной скрипачки, хотя довольно сносно справлялась здесь со всеми трудностями. Вероятно, чтобы вызвать во мне честолюбивое чувство, учительница любила говорить о славе, которую нельзя купить, которая достигается только работой, работой и работой!
Педагог по скрипке была высокая, тонкая дама, всегда бледная, с удивительно красивыми руками… и очень длинным носом. Когда она играла на скрипке, была видна не голова, а один только ее длинный нос.
Она часто говорила: «Знай, когда человек некрасив, жизнь его не бывает усыпана розами. Но когда он талантлив, то в царстве музыки, независимо от внешности, жизнь его всегда будет полна цветов».
Я была уверена, что, говоря об этом, она имела в виду не только себя, но и меня. Я не была красива, знала это слишком хорошо, мне нравилось, что она так доверительно со мной говорила.
Ее звали Берта. Так могли звать птичку, а может, и лису. Самое прекрасное, что у нее было, — это рыжевато-каштановые волосы. В течение нескольких лет она занималась со мной (после войны учительниц заменили учителя-мужчины), но я ничего не знала о ее личной жизни, теряла ли она, как другие, во время войны своих братьев, друзей. Она никогда не говорила о себе. Как-то зимой она пришла вся замерзшая, грела руки, терла их, дышала на них и долго держала в руках горячую чашку с чаем.
Летом она дарила мне цветок или помидоры, выращенные ею в ящиках на балконе. Помидорами она особенно гордилась. На Рождество она приносила зеленое, розовое или бледно-голубое стекло, упакованное в цветную бумагу, и каждый раз передавала со словами: «Это — для твоей мамы, положи под елку, а мы потом посмотрим, догадается ли она от кого». Она с удовольствием проделывала это каждый год. Фамилия ее была Глас[4]. Она никогда не забывала спросить меня, догадалась ли мама, от кого подарок. А я не осмеливалась поинтересоваться, занималась ли она этой игрой в отгадки с другими учениками. Она первая подала моей маме идею, что я должна стать скрипачкой.
Педагог по фортепьяно была совсем другая — кругленькая, уютная дама. Когда мы играли вальс в четыре руки, она весело смеялась, запрокидывая голову назад. Она была хорошенькой и, вероятно, потому никогда не дискутировала о преимуществах и недостатках, которые может дать красивая внешность.
У нее были незамужние дочери, были кузины, — словом, все ее родственники — женщины. Только у нее — из тех, кого мы знали, — никого не было на войне. Я была уверена, что именно поэтому она всегда веселая. Правда, мама говорила, что она по природе такая, такой родилась. Обычно она дарила маме косынки, на которых рисовала кошечек и первые такты шопеновских вальсов. Косынки были сильно накрахмалены, и краски отслаивались, оставляя после себя дыры в нотном рисунке.
Мама с большим уважением относилась к моим учителям и никогда не подвергала сомнению их решения, их методы или привычки, не говоря уже о подарках. Косынки бережно хранились в шелковистой бумаге, а цветные стекла лежали на видном месте на полке серванта.
Была и такая учительница, которая не приходила к нам, не приносила подарков, наоборот, к каждому празднику она сама что-то получала от нас. Она занималась с нами гимнастикой и проделывала удивительные вещи. Например, закрепляла мою голову в кожаный воротник со специальными ремнями для лба и подбородка и, подтягивая, подвешивала на этих ремнях к потолку гимнастического зала. Мне казалось, что вот так, привязанная, я буду висеть вечно.