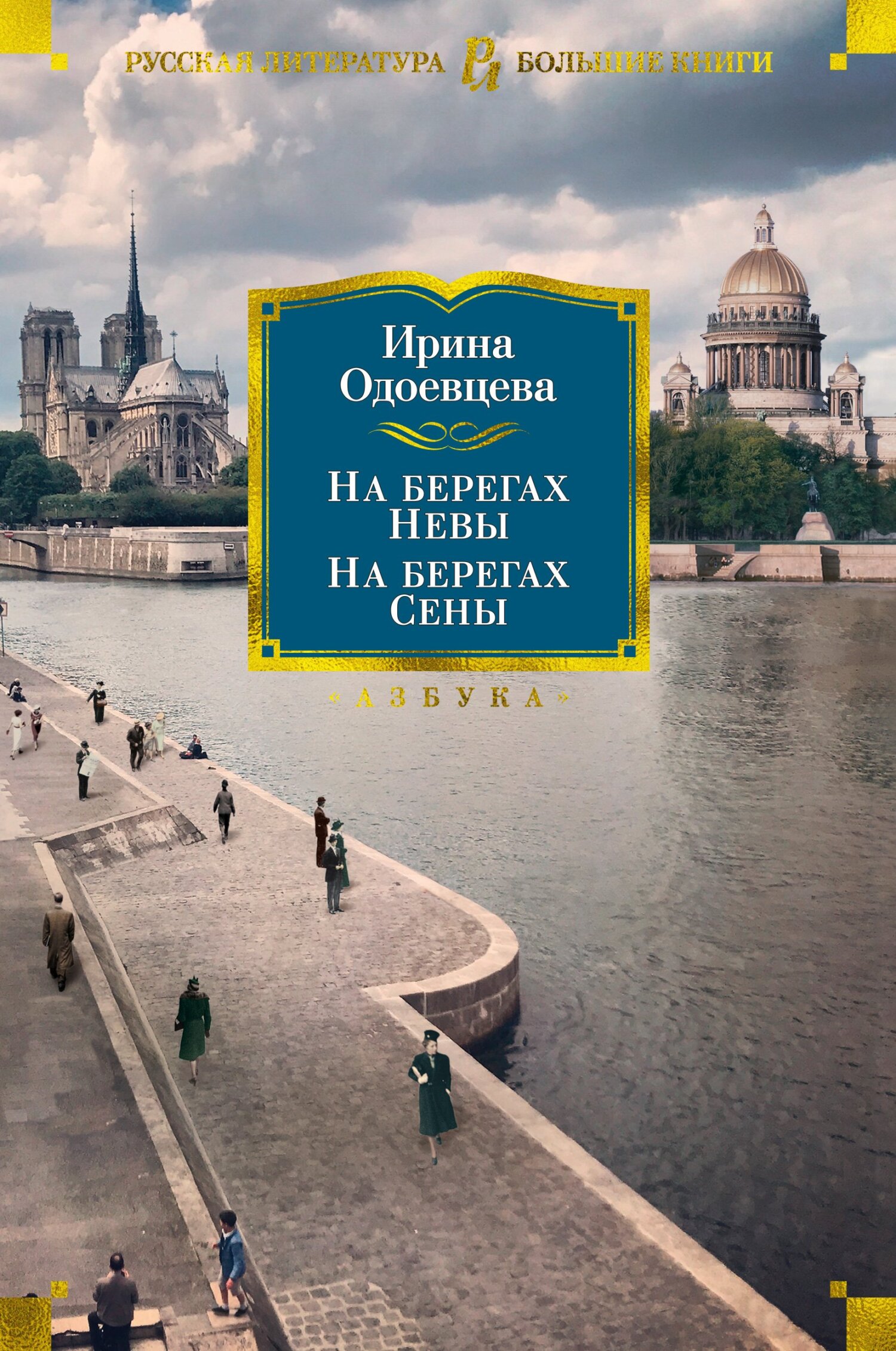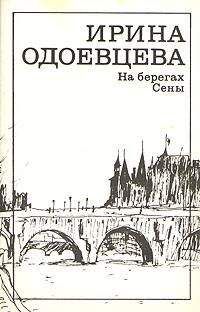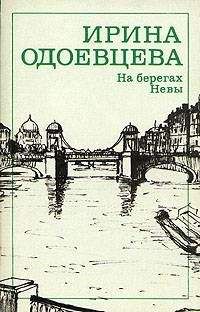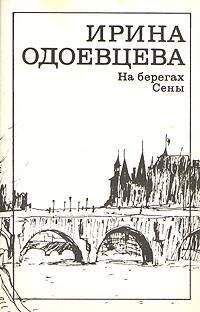бы напечатать. Он, право, не хуже моего. Он даже чем-то напоминает пушкинскую «Черную шаль».
Я слушала и не верила. Гумилев не мог этого сказать. Я стала расспрашивать всех, и все повторяли одно и то же: «Можно напечатать. Похож на „Черную шаль“». Что же это такое? Я недоумевала. Значит, я не бездарна? Значит, моя жизнь еще не кончена?..
Теперь, когда оглядываюсь назад, мне ясно, что Гумилеву было известно, кто автор сонета, похожего на «Черную шаль», и он, пожалев «рыженькую с бантом», снова «перегнул палку» уже в сторону чрезмерных похвал.
И все же я не пошла на следующую лекцию Гумилева. Я выдерживала характер. Хотя эта выдержка давалась мне нелегко.
Я, как тень, металась по коридору мимо класса, где вел занятия Гумилев, и только из остатка самоуважения не подслушивала у дверей.
И однажды случилось невероятное: Гумилев, окончив занятия, вышел раньше обыкновенного из класса и спустился по лестнице.
Я, сама не зная почему, стала тихо спускаться за ним. Он, надев свою доху и оленью ушастую шапку, не пошел к двери, а круто повернул прямо на меня. Я, как это бывает во сне, почувствовала, что окаменела и не могу двинуться с места.
– Почему вы больше не приходите на мои занятия? – спросил он, глядя на меня одним глазом, в то время как другой глаз смотрел в сторону, будто внимательно разглядывая что-то.
И под этим двоящимся взглядом я не нашла в себе даже силы ответить.
– Почему вы не приходите? – повторил он нетерпеливо. – Непременно приходите в следующий четверг в четыре часа. Мы будем вместе переделывать ямбы на амфибрахии. Вы знаете, что такое амфибрахии?
Я молча покачала головой.
– А знать необходимо. – Он улыбнулся и неожиданно прибавил: – Вас зовут Наташа.
Не вопрос, а утверждение.
Я снова покачала головой.
– Нет. Совсем нет, – проговорила я быстро, холодея от ужаса за нелепое «совсем нет».
Гумилев по-своему оценил мой ответ.
– Вы, мадемуазель, иностранка?
– Нет, я русская, – ответила я с раскатом на «р» – «рррусская». И будто очнувшись от этого картавого раската, бросилась от него вверх по лестнице, перепрыгивая через ступеньки.
– Так в четверг. Не забудьте, в четыре часа. Я вас жду, – донесся до меня его голос.
Забыть? Разве можно забыть? И разве я могла не пойти, когда он сказал – я вас жду!
И я в четверг уже сидела в классе, когда вошел Гумилев. В тот день я узнала, что такое амфибрахий.
И даже впервые услыхала имя Георгия Иванова.
Гумилев, чтобы заставить своих учеников запомнить стихотворные размеры, приурочивал их к именам поэтов – так, Николай Гумилев был примером анапеста, Анна Ахматова – дактиля, Георгий Иванов – амфибрахия.
Но кто такой амфибрахический Георгий Иванов, я не знала, а Гумилев, считая нас сведущими в современной поэзии, не пояснил нам.
В тот же день мы переделывали «Птичку Божию» в ямбы:
А птичка Божия не знает Работы тяжкой и труда…
и так далее.
И я с увлечением, забыв о прошлом, подыскивала слова.
С тех пор я стала постоянной посетительницей лекций Гумилева, но старательно избегала встречи с ним в коридоре.
Через месяц я уже понимала, что Гумилев был прав, что мои прежние стихи никуда не годятся, и сожгла тетрадь, где они были записаны.
«Вот эта синяя тетрадь с моими детскими стихами» медленно горела в камине, а я смотрела, как коробятся и превращаются в пепел строки, бывшие мне когда-то так дороги.
Ведь Гумилев говорил: лучше все, что вы написали прежде, сжечь и забыть. Из огня, как феникс, должны восстать новые стихи.
Но мои новые стихи совсем не были похожи на феникса. Ни легкокрылости, ни полета в них не было. Напротив, они, хотя и соответствовали всем правилам Гумилева, звучали тяжело и неуклюже и давались мне с трудом. И они совсем не нравились мне.
Не нравились мне и стихи, сочиненные под руководством Гумилева на практических занятиях, вроде обращения дочери к отцу-дракону:
Отец мой, отец мой, К тебе семиглавый — В широкие синие степи твои Иду приобщиться немеркнущей славы Двенадцатизвездной твоей чешуи…
И хотя я поверила Гумилеву, что «испанцы и маркизы – пошлость», но семиглавый дракон с двенадцатизвездной чешуей меня не очаровал. Гумилев сам предложил строчку – «Двенадцатизвездной твоей чешуи», и она была принята единодушно. Все, что он говорил, было непреложно и принималось на веру.
Да, учиться писать стихи было трудно. Тем более что Гумилев нас никак не обнадеживал.
– Я не обещаю вам, что вы станете поэтами, я не могу в вас вдохнуть талант, если его у вас нет. Но вы станете прекрасными читателями. А это уже очень много. Вы научитесь понимать стихи и правильно оценивать их. Без изучения поэзии нельзя писать стихи. Надо учиться писать стихи. Так же долго и усердно, как играть на рояле. Ведь никому не придет в голову играть на рояле, не учась. Когда вы усвоите все правила и проделаете бесчисленные поэтические упражнения, тогда вы сможете, отбросив их, писать по вдохновению, не считаясь ни с чем. Тогда, как говорил Кальдерон, вы сможете запереть правила в ящик на ключ и бросить ключ в море. Теперь же то, что вы принимаете за вдохновение, просто невежество и безграмотность.
Я ежилась от таких речей. Надо действительно быть всецело преданным поэзии, чтобы выдержать эту «учебу».
Я не пропускала ни