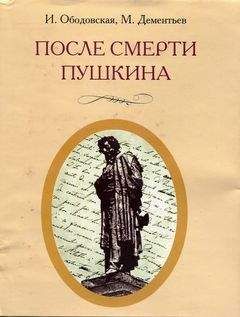Такими же лучшими чертами народно-национального характера наделена и «верная», «честная», «беспорочная», «невинно опозоренная» злым опричником на глазах сплетниц-«соседушек» жена Калашникова, Алена Дмитриевна, которая на суровые упреки и угрозы еще не знавшего, что произошло, мужа отвечает ему: «Не боюся смерти лютыя, Не боюся я людской молвы, А боюсь твоей немилости». Было ли это отражением доброго уже тогда отношения Лермонтова к вдове Пушкина (если судить по Араповой, не было), или — в отличие от Калашникова — Алена Дмитриевна тоже желанный для Лермонтова, но не соответствующий реальности антиобраз Натальи Николаевны, сказать трудно. Скорее всего, что «враждебного» к ней отношения у него не было («убийцей Пушкина» Лермонтов, который первым понял, кто его истинные убийцы, ее не считал, но он мог разделять уже известную нам точку зрения на нее Карамзиных, в салоне которых очень часто бывал, и где, видимо, и имели место его предыдущие встречи с вдовой поэта. А когда увидел во время прощального вечера на ее еще более прекрасном лице черты той «смертельной опечаленности», о которой она писала Вяземскому и которая так поразила и пленила Паллавичини, у автора «Смерти Пушкина» и «Песни о купце Калашникове...» вспыхнуло в эту снова для него столь драматическую пору (крушение его планов добиться отставки и всецело отдаться своему творческому делу) желание ближе узнать и понять ее. Пока нет прямых подтверждающих данных, факт такой интимной встречи-беседы, явно выходившей из светских этикетных рамок и потому, по-видимому, даже шокировавшей Карамзиных, вдовы Пушкина с уже признанным тогда его наиболее непосредственным литературным «наследником» (слово Белинского) не может считаться окончательно доказанным. Но приведенные мною косвенные соображения, считаю, делают это весьма правдоподобным.
Вообще же после возвращения в Петербург Наталья Николаевна повела очень уединенный образ жизни, не бывала, за исключением салона Карамзиных, который так часто посещала вместе с Пушкиным, ни на светских приемах, ни в театре. В то же время она всячески пыталась окружить себя близкими Пушкину людьми, такими, как П. А. Плетнев, П. А. Вяземский (еще с лицейских пушкинских лет бывший его личным и литературным другом, который стал теперь завсегдатаем в ее доме, посетил ее в Михайловском и даже поддался ее женскому обаянию, как говорили, «волочился за ней») и, в особенности, наиболее любимый Пушкиным в последние годы его жизни П. В. Нащокин и его жена. «Пушкина всегда трогает меня своею привязанностью», говоря, «как ценит дружбу ко мне мужа», писал Плетнев тогда же. Повторила она свое горячее желание продолжать самые дружеские отношения с ним и после выхода замуж за Ланского, во время традиционного свадебного визита к нему, приехав, однако, не так, как полагалось по этикету для новобрачных, не вдвоем, а одна. Плетнев очень обиделся за это на Ланского, не поняв, что со стороны Натальи Николаевны (можно не сомневаться, что именно она проявила здесь инициативу) это было подсказано столь присущим ей особым сердечным тактом — опасением, что появление ее — счастливой — вместе с новым — счастливым — супругом может причинить боль другу поэта.
Примерно с такой же, если еще не большей, неохотой, как в свете, Наталья Николаевна снова стала появляться и при дворе, когда император и императрица опять пожелали украсить ее присутствием свои балы и приемы; а вовсе уклониться от этого, конечно, было немыслимо. Напомню, что и после брака с Пушкиным она, как известно, очень не хотела, и отнюдь не только по робости, как считала ее свекровь, уверяя, что это скоро пройдет, сближения с императорской четой и двором, но силой обстоятельств и стремлением Пушкина ни в чем не лишать свою юную и прекрасную «женку» она вынуждена была все же пойти на это. Весьма оживленная, полная развлечений великосветская жизнь, которую вследствие этого ей пришлось повести, ее молодость, преклонение перед ее красотой, блистательные светские и придворные триумфы, бесчисленные поклонники - все это на какое-то время могло вскружить ей голову. Но под влиянием того чуть не разорвавшего ее душу в клочья удара, который на нее внезапно обрушился в 1837 году и который навсегда оставил на ней свои следы, первоначальные, исконно свойственные ее натуре черты стали проявляться с еще большей силой.
При дворе она стала бывать лишь тогда, когда нельзя было этого избежать, когда ее специально звали, а по существу, приказывали. Характерен ее ответ одной сугубо великосветской даме, дочери фельдмаршала Салтыкова и матери старшего приятеля Пушкина и позднее Лермонтова, поэта и камергера И. П. Мятлева, которая «требовала», чтобы она присутствовала на панихиде по маленькой великой княжне. Наталья Николаевна решительно отказалась от этого, ссылаясь на то, что не получила никакого специального «приказа». А когда несколько месяцев спустя ей все же не удалось уклониться от присутствия на торжественной панихиде в Петропавловском соборе по последнему брату царя, Михаилу Павловичу, она писала Ланскому: «Рядом со мной все время стояла госпожа Охотникова, которая заливалась слезами, г-жа Ливен сумела выжать несколько слезинок. Другие дамы тоже плакали, а я не могла». Привел эту цитату потому, что она очень напоминает, вероятно, хорошо запомнившуюся одну из народных сцен пушкинского «Бориса Годунова»: согнанные на площадь сторонниками Бориса толпы народа, чтобы слезно умолять его принять царский венец, кроме немногих, «все плачут», да и немногие, кто не может или не хочет плакать — а «надо плакать», — трут глаза луком или, имитируя слезы, мажут их слюной. Но плакать или хотя бы «выжать несколько слезинок» о том, кто (можно с уверенностью сказать, что это стало известно вдове Пушкина) выражал сожаление не об убитом поэте («Туда ему и дорога»), а об его убийце — разжалованном в солдаты Дантесе, Наталья Николаевна не хотела и не могла.
Но особенно значительны в отношении всего только что приведенного выдержки из другого ее письма той же поры к Ланскому, который посмеялся над какими-то высказываниями жены на политические темы: «Ты совершенно прав... этот предмет мне совершенно чужд... Я более привыкла к семейной жизни, это простое, безыскусственное дело мне ближе, и я надеюсь, что исполняю его с большим успехом». Да, в «семейной жизни» — в любви и преданности тому, с кем она навсегда перед Богом и людьми соединила свою судьбу, — в радостях материнства она не только находила свое наиболее полное счастье, но считала это выполнением своего долга, того высокого предназначения, которое возложено на женщин законами их природы. С этим было связано и ее глубокое сочувствие тем, кто, оставшись старыми девами, был всего этого лишен. Об этом она, порой споря со вторым мужем, неоднократно писала, объясняя и оправдывая тяжелый характер Александры, которая после вторичного замужества сестры продолжала жить у Ланских, тем, что ее выход замуж так затянулся, прямо угрожая, по понятиям того времени, превратить ее в старую деву. «Нет ничего более печального, чем жизнь старой девы, которая должна безропотно покориться тому, чтобы любить чужих, не своих детей, и придумывать себе иные обязанности, нежели те, которые предписывает сама природа, — пишет она мужу и продолжает: - Ты мне называешь многих старых дев, но проникал ли ты в их сердца, знаешь ли ты, через сколько горьких разочарований они прошли...» В этих словах открывается и еще одна чудесная грань душевного строя Натальи Николаевны, объясняющая то обаяние, которое, как уже сказано, при более близком общении с ней испытывали даже те, кто поначалу был ее недругом, — умение так сочувственно-сердечно заглянуть в чужое сердце, успокоить и ободрить его.