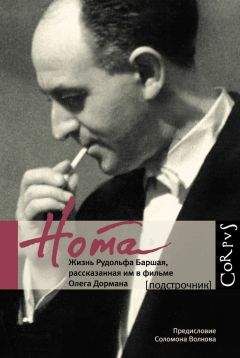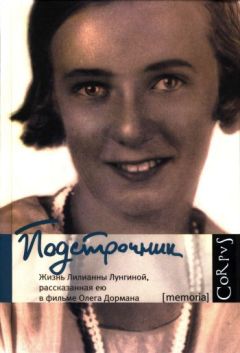Бабушка не ошиблась. И вот теперь Молотов рассказывал нам, что немецкая авиация бомбит город за городом, и уверял, что враг будет разбит.
Ужас всех охватил. Он был тем больше, что вокруг ничего не изменилось — Москву не бомбили, по улицам ехали трамваи, легковые машины, цвела сирень. Когда речь закончилась, мы пошли в училище. Нам сказали, что все ученики и педагоги будут добровольно дежурить на чердаке училища, потому что туда могут попасть зажигательные бомбы, их надо вовремя, не боясь, брать и выкидывать в окно, чтобы они загорелись на улице, а не подожгли помещение. Распоряжался всем Цейтлин, составлял списки, согласовывал даты дежурств.
В первый месяц война ощущалась, главным образом, в том, что по городу шли отряды добровольцев. Сотни тысяч людей записывались в ополчение и уходили на фронт.
Не маршировали, ничего торжественного, — обычные, штатские люди, они просто молча шли, шли и шли. Мой дядя-книжник ушел. Многие из консерватории. У отца была с детства повреждена рука, он почти ничего не мог ею делать, так что на фронт не годился, но на работе был сутками.
А потом начались бомбежки. Выли сирены, люди бежали в убежища. Страшно. В первое дежурство я оказался на чердаке школы вместе с Цейтлиным. К нам действительно падали зажигалки, мы хватали их — они, пока не успеют разгореться, холодные, — выбрасывали в окно и смотрели, как они внизу на асфальте вспыхивали. Вдруг услышали страшный грохот — взорвалось где-то неподалеку. Когда под утро бомбежка закончилась, мы с Цейтлиным пошли к Тверскому бульвару и на площади Никитских ворот увидели пустой постамент Тимирязева. Бомба упала рядом, и Тимирязева унесло взрывной волной. За домами в стороне Садового кольца в небо поднимались клубы дыма. Цейтлин сказал, что ему надо сейчас же туда пойти. Я знал, что там жила его бывшая жена с их дочкой, и пошел с ним. По пути он сказал, что жена и дочка уехали в эвакуацию, и почти сразу, еще издали, мы увидели, что дома нет, на этом месте пылает пожар. Там же находилась Книжная палата, замечательное старинное здание, оно полностью сгорело. Мы стояли и глядели на огонь, а потом не пошли по домам, целый день ходили по городу, смотрели, что с Москвой. Где-то поели, вечером я проводил его домой.
Немцы стремительно приближались к Москве. Делалось все яснее, что Гитлер может победить. Мне доводилось встречать людей, которые ждали немцев. Ненависть этих людей к тому, что большевики сделали с Россией, была сильнее страха перед внешним врагом. Моя подружка, пианистка Калинковицкая, работала ассистенткой у одного профессора, который был известным антисемитом. И то ли он сам, то ли кто-то из его окружения — сейчас не помню точно — сказал ей: «Ты чего тут сидишь? Давай-ка улепетывай быстрее, пока жива. Если немцы зайдут в Москву, мы всех вас повырежем». Такие настроения тоже существовали.
Мне было шестнадцать лет. Немцев я не боялся. К тому времени я немножко овладел немецким, потому что хотел прочесть книгу Альберта Швейцера «Иоганн Себастьян Бах». Начал читать со словарем, а заканчивал уже без. И вот я думал, что если войдут немцы — буду разговаривать с ними по-немецки. Я еще не знал всей глубины враждебности и подлости тогдашних немцев. Именно тогдашних. Я очень симпатизирую немецкому народу, но то были особые немцы, нацисты, патологически больные люди, как я потом читал в отчетах разных психиатров. Гитлер был больной человек. И Сталин тоже больной, только у них были разные патологии. У Гитлера — тяжелый случай некрофилии. Это болезнь, при которой человек любит все мертвое и ненавидит все живое, что делает его особенно опасным. А Сталин — клинический садист. Это описал гениальный психолог и философ Эрих Фромм, которого я очень почитаю.
В августе к нам домой пришли какие-то военные люди. Они сказали: «Есть указание, граждане, вывезти из Москвы семьи, в которых имеется особо одаренный студент». Указали на меня. «В вашем случае, — говорят, — это еще только потенциальный студент, но ЦМШ получила распоряжение составить списки на эвакуацию, и Баршай Рудольф в них включен. Мы предлагаем помощь — проводим до Речного вокзала, где вас посадят на пароход и отвезут до Нижнего Новгорода».
Выбора не оставляли — просто выпроводили из Москвы.
Снова толпы беженцев, мешки, тюки, баулы, крики на всех языках, плач, душераздирающие сцены. Бродит старик одинокий, никого, видно, у него нет. Приткнется куда-нибудь — тут же гонят. Присядет — говорят: «Эй, дед, место занято». Но нашелся человек, вступился: послушайте, он же едет в эвакуацию, ему полагается ехать, указ такой! Один повел себя по-человечески — тогда другие люди как будто очнулись: пустили деда, посадили на палубу. А может, слово «указ» подействовало.
Из Новгорода доплыли до Астрахани. Я видел, как очень старый человек умер от голода. Он никому не жаловался, что голоден, это потом санитары сказали.
Папа решил, что надо ехать в Красноводск, в Среднюю Азию, у него там оставались знакомые. По воде добраться невозможно. Билетов на поезд тоже не достать, поезда переполнены. Мы две недели кантовались в Астрахани, потом на поездах с пересадками, на грузовиках добрались до Куйбышева, оттуда до Ташкента.
Там — великое смешение народов. Люди с Украины, из Белоруссии, Армении, Грузии — все приезжали в Ташкент, всех узбеки приютили. Случайно я узнал, что здесь в эвакуации находится Ленинградская консерватория. Отправился прямо к ее ректору, Павлу Алексеевичу Серебрякову, и говорю: я студент училища Московской консерватории, ученик Цейтлина… Он отвечает: «И что же вы теперь хотите?» — «Хотел бы поступить в консерваторию или в школу при консерватории и продолжать обучение». Серебряков говорит: «А вы знаете, у нас кон-сер-ва-тория (он так разговаривал), а не эвакопункт».
Очень было неприятно. Я вынужден об этом рассказать, потому что это правда.
Иду по ташкентской улице, в руках скрипичный футляр, вдруг навстречу — мой старинный друг, Миша Вайман. Блестящий ученик Столярского, замечательный скрипач, огромнейший талант! Он потом заведовал кафедрой в Ленинградской консерватории.
Я Мише рассказал все, он говорит: «Наплюй, не расстраивайся. Тебе просто попался недобрый человек. А я вот приехал, и меня взял в свой класс профессор Эйдлин. Он, между прочим, с твоим учителем у Ауэра учился. Идем, сыграешь ему».
Сыграть я кое-что мог: мы с Цейтлиным закончили год концертом Сен-Санса для скрипки, а это уже не ученическое сочинение. Миша меня привел, рассказал всю историю Эйдлину. Тот оживился: «Левин ученик? Очень приятно. Что исполните?» Позвал аккомпаниаторшу, и мы без репетиций ему сыграли. «Будете у меня учиться, — говорит. — С Серебряковым я договорюсь».