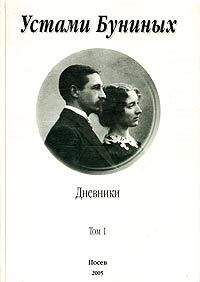23 июля/5 августа.
[…] Под вечер зашел к нам Злобин. Они вели с Яном разговор о значении биографии. Ян доказывал, что биография не важна.
24 июля / 6 августа.
Ходила в город. Когда вернулась домой, Ян сказал: «На беззаботную семью, как гром, свалилась Божья кара»… Я испугалась: что такое? Оказывается, что Мережковских гонят из их аппартаментов: слишком большие комнаты для одного человека!
Дмитрий Сергеевич так расстроился, что даже не поехал с нами в лесную санаторию. Мы смотрели там комнаты.
Был у нас Кривошеий20 с младшим сыном. […] Он находит, что монархия много сделала: «вывезла Россию из тьмы и топи, поставила на европейскую ногу». […] Он считает, что первая коренная ошибка заключается в том, что крестьян освободили от крепостной зависимости, наделив их землею, чего нигде во всем мире не делали. Нужно было освободить их без земли, но тотчас же открыть крестьянский банк и на самых льготных условиях продавать им землю в собственность. Тогда бы не было этого предрассудка, что у русского мужика мало земли и что все беды от этого. […]
З. H. жалела, что мы не позвали ее. Она сказала:
— Я люблю смотреть на людей. Жадна до них.
[Запись Ивана Алексеевича:]
6 авг. (н. с) 21 г. Dietenmuhle. Висбаден.
Сумрачно, прохладно, качание и шум деревьев. Был Кривошеий. Очень неглупый человек.
В газетах все то же. «На помощь!» Призывы к миру «спасти миллионы наших братьев, гибнущих от голода русских крестьян!» А вот когда миллионами гибли в городах от того же голода не крестьяне, никто не орал. […] И как надоела всему миру своими гнустями и несчастьями эта подлая, жадная, нелепая сволочь Русь!
[Из записей Веры Николаевны:]
25 июля/7 августа.
Дома у нас волнение. Хозяева требуют, чтобы Злобин […] перешел в наш этаж, в маленькую комнату, а в его вселяют французское семейство с грудным ребенком, очень крикливым. Дм. С. в панике. […] З. Н. олимпийски спокойна, занята тем, как из рассказа «При дороге»21 сделать пьесу. Все уговаривает Яна […] Вечером, после обеда, они около часу разговаривали на эту тему. […] З. Н. советует вывести на сцену и любовницу отца Параши. Ян стал выдумывать, какая она должна быть, какой у нее муж. «Она может быть лавочницей, мало говорящей, но властной, с густыми волосами и прекрасной шеей. Муж у нее маленький, чахленький старикашка. Сидит на полу вечером, разувается, стучит сапогом и говорит: „Да, нонче все можно“» — (намекая на связь жены). «Да, — повторяет она спокойно, — все можно. Только бы лучше об делу подумай!..» Она уже лежит в постели. З. Н. не понимает, что в деревне есть свой бон-тон, что женщине заехать к любовнику почти невозможно. […]
26 июля/8 августа.
[…] В газетах известие: Тэффи опасно заболела. Я очень беспокоюсь. […] Ходили гулять с Яном. […]
28 июля/10 августа.
[…] Кривошеий рассказал, как он ушел из-под ареста. […] Рассказывает он хорошо, точно, кратко, твердо.
«В июле 1918 г. я еще оставался в Москве. […] Приехал на службу автомобиль с красноармейцами, чтобы арестовать меня. По счастью, красноармейцы заинтересовались кассой. […] и так увлеклись, что я свободно выходил и опять входил в комнату. […] Мне пришла в голову мысль — уйти. […] вышел из комнаты, спустился по лестнице, прошел по коридору в переднюю, снял шляпу, взял трость и прошел мимо красноармейцев. Они было сделали движение ко мне, но затем остановились, решив, что я кто-нибудь другой. Я вышел в переулок. Вижу автомобиль, красноармейцы с ружьями. Мгновенно соображаю, если пойду по переулку, то догнать меня легче — автомобиль стоит задом к бульвару. Иду к бульвару. Те три минуты, которые иду по переулку, кажутся вечностью. Хочется оглянуться, ускорить шаг. Но я выдерживаю характер. […] у меня знакомый доктор немец. Я отстоял его во время войны, его хотели отставить, как немца-шпиона. Я отправился к нему. […] изложил дело, вижу, он пугается и говорит, что же я могу вам сделать? Дал письмо к кому-то в Смоленск. А о ночевке ни полслова. Я ушел. В этот день я был приглашен к Харитоненко, к своим друзьям, которые мне также были в свое время обязаны. […] Вижу, они испуганы, уже знают об аресте и о том, что я ушел. […] От Харитоненко я вышел с Сосновским, одесским городоначальником. Он немного помог мне. На другой день было воскресенье. Один сын умудрился ускользнуть из дому, хотя в доме была засада. Он принес мне переодеться. Весь день я просидел у Якунчиковой. Неловко. […] утром обрился. Я выехал на извозчике в Кунцево. […] В Смоленске, благодаря письму доктора Шимана, я получил фальшивый паспорт и совет ехать первым же поездом […] До Орши доехал. Но вследствие восстания эсеров, граница оказалась закрытой. Двое суток я провалялся на асфальте, пока ее не открыли. […] через Могилев я отправился в Киев и думал, что это уже конец мытарствам». […]
31 июля /13 августа.
Вчера переехали в Нероберг. […] Сюда нас вез очень смешливый извозчик. Он был в Риге, знает Вильно, Ковно и т. д. Сразу понял, что мы русские. Говорил, что после войны Россия капут! […]
Мы с Яном разъединены. Он в 7 номере, я в 10. Между нами Мережковские. […] Ян сразу переставил у себя все вещи. Я тоже быстро устроилась. Мы переехали еще до обеда. Мережковские — после, днем. Обедаем все за одним столом. Мережковские едят мало. З. Н. говорит, что она никак не привыкнет к еде после России при большевиках. […]
1/14 августа.
[…] Пришло известие о смерти Блока, умер от цынги. Уже появились некрологи. […]
Милюков написал о нем, что он «общепризнанный наследник Пушкина». Пушкин и Блок? […]
Вчера вечером мы с Яном расспрашивали З. Н. о Блоке, об его личной жизни. Она была хорошо с ним знакома. Сойтись с Блоком было очень трудно. Говорить с ним надо было намеками. […] З. Н. стихи Блока любит, но не все, а пьесы ей не нравятся. «Розу и Крест» считает даже слабой. «Балаганчик» тоже никогда не находила хорошим. Она показала свое стихотворение, переписанное рукой Блока. Почерк у него хороший. Я спросила о последней ее встрече с ним. Она была в трамвае. Блок поклонился ей и спросил: «Вы подадите мне руку?» — «Лично, да, но общественно между нами все кончено». Он спросил: «Вы собираетесь уезжать?» Она: «Да, ведь выбора нет: или нужно идти туда, где вы бываете, или умирать». Блок: «Ну, умереть везде можно».
— Да, Горький не мог спасти его от цынги, а ведь они были очень близки, — заметила З. Н.
2/15 августа
День рождения Дм. Серг. В честь этого пили дорогие вина. […]
Вечером опять говорили о Блоке. Мережковский ставит Блока высоко, за то, что он «ощущал женское начало». Далее он говорил: «Мы считаем Бога мужским началом. А ранее, во времена Атлантиды, Богом считали женское начало. И вот Блок ощущал это. Он знал тайну. Когда он входил, то я чувствовал за ним Прекрасную Даму».