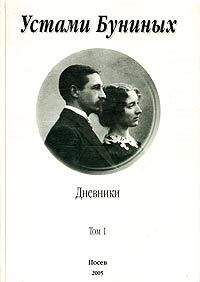Ян возразил: — Ну, да, вы это чувствовали, когда видели его. Но я его не видал, а по стихам я не чувствую этого.
Дмитрий Сергеевич стал смеяться, по-волчьи оскаляться, зеленый огонек блеснул в глазах: — Мертвых нужно любить, ласкать.
— А Ленина? — спросила я.
— Ленина? Нет, — ответил Дм. С.
— Но ведь это не по-христиански, — заметила я.
— Нет, и в христианстве говорят о тьме кромешной и геенне огненной, — объяснил Дм. С.
З. Н. все сводила разговор на мирный тон. И все добивалась, как Ян относится к Соловьеву22 и признает ли его?
— Соловьева признаю, у него есть стройность. Хотя вы сами согласитесь, что у него есть и слабые стихи.
Они согласились. Мы посидели еще немного. […]
Ян пришел ко мне и сказал возмущенно:
— Я хочу судить произведения, а мне суют, что когда он входит, за ним чувствуется «Прекрасная дама» или «Великий инквизитор». Да это совсем другое и ничего общего с искусством не имеет.
4/17 августа.
[…] Дм. С. развивал мысль, что в Германии нужно начать антибольшевицкую пропаганду, что здесь это гораздо легче, чем во Франции. Ян согласился с ним.
З. Н. никогда не говорит о женщинах, точно они не существуют. О мужчинах известных любит рассказывать.
[…] Мережковский считает, что скептицизм — слабость ума.
— А Вольтер? Соломон?
— Они тоже ограничены.
[…] З. Н. сказала: — Я умнее тебя. Ты талантлив, у тебя бывают гениальные прозрения, но я умнее. […]
7/20 августа.
[…] Вечером мы час сидели в ее [Зин. Ник. — М. Г.] комнате. Д. С. уходит всегда вечером к себе, читать, Злобин тоже. Вот ей и скучно. Говорили о революции. […] З. Н. сказала, что она приемлет революцию даже после того, что она за собой принесла, что февральская революция — счастье!
[С этого дня возобновляются и записи Ивана Алексеевича (Висбаденские записи рукописные):]
7/20 авг. 1921, Нероберг, над Висбаденом.
Юра Маклаков23. Его рассказы. […]
8/21 авг.
Прогулка с Мережковскими по лесу, «курятник». Лунная ночь. Пение в судомойне — чисто немецкое, — как Зина и Саша когда-то в Глотове. Звезда, играющая над лесом направо, — смиренная, прелестная. Клеська, Глотово — все без возврата. Лесные долины вдали. Думал о Кавказе, — как там они полны тайны! Давно, давно не видал лунных ночей. — Луна за домом (нашим)), Капелла налево, над самой дальней и высокой горой. Как непередаваема туманность над дальними долинами! Как странно, — я в Германии!
9/22 Авг.
Были с Верой в Майнце. Есть очаров[ательные] улицы. Четыре церкви (католич.) — в двух из них натолкнулись на покойников. Двери открыты — входи кто хочешь и когда хочешь. И ни души. В последней церкви посидели. Тишина такая, что вздохнешь поглубже — отзывается во всем верху. Сзади, справа вечернее солнце в окна. И гроб, покрытый черным сукном. Кто в нем, тот, кого я во веки не видел и не увижу? Послал из Майнца стихи в «Огни»24.
[Запись Веры Николаевны:]
11/24 августа.
Вечером сидели у З. Н. Она расспрашивала Яна об его первой любви. О том, какой он бывал, когда влюблен. […] Ян прочел стихотворение — дочь невеста и отношение отца. З. Н. никогда не читала его, спросила: «Оно напечатано?» — «Нет». — «Почему?» — «Таких стихов я не печатаю». — «Вы хотели бы иметь дочь?» — «Да, — помните, я рисовал идеал жизни: лесничий, у него две дочери с толстыми косами». — «Да, я начинаю понимать Ваше отношение. Оно очень тонкое, ничего общего не имеет со старческим чувством к девочкам». — «Конечно, терпеть не могу ничего противоестественного. Во мне только аполлоновское начало». — «Во мне тоже», — сказалa З. Н.
[Запись PL А. Бунина:]
12/25 авг.
Получил «Жар-Птицу». Пошлейшая статья Алешки Толстого о Судейкине. Были Кривошеины и интервьюер голландец. После обеда, как всегда, у Гиппиус, говорили о поэтах. Ей все-таки можно прочистить мозги да и вообще вкус у нее ничего себе.
[Из записей Веры Николаевны:]
12/25 августа.
[…] Сидели в комнате З. Н. Она вела разговор о революции. Восхваляла февральскую. Кривошеий молчал при всех рискованных местах. А за обедом З. Н. заявила, что — «Кривошеий наших убеждений. Он на все смотрит, как мы». […]
13/26 августа.
Ох, устала я от знаменитостей. Скучно с ними, каждый занят собой и разговаривают они почти всегда лишь с равными. А ты сиди и слушай все, что бы они ни несли, а возразишь — так даже не удостоят ответом. […]
14/27 августа.
[…] Ян долго и подробно рассказывал мне, о чем они так страстно говорили.
— Нет, с ней говорить можно, а с Мережковским нельзя, с Бальмонтом нельзя, с Куприным нельзя. Она много думает и многим интересуется.
Интереснее всего на мой взгляд у них был разговор: какая нужна любовь — плотская или духовная? Нужен ли даже самый род? В Мережковских есть какая-то необычность, а поэтому и интерес к этим вопросам. Поэтому он был спокоен ко всем ее влюбленностям. Он сам до сих пор влюблен, именно влюблен в нее, а она рассудочна с ним, у нее нет восхищения жены перед ним, у Володи больше.
16/29 августа.
Посылаю в редакцию «Огней» призыв матерей, гибнущих в России, призыв только что дошедший до нас.
Переписываю его, ничего не видя от слез, ужаса, скорби, — за всю жизнь не читала ничего более потрясающего и великого.
Вместо подписей под этим призывом 44 креста, начертанных углем, карандашом, копотью, два — чернилами, десять — кровью.
Это письмо получил Мережковский от какой-то сестры милосердия Дьяковой для распространения. На всех оно произвело потрясающее впечатление.
«Во имя Отца и Сына и Святого Духа, да поможет Мир детям России. Мы, матери, обреченные на смерть этой зимою от голода, холода, от болезней, которые не сможем уже перенести в силу нашего истощения, которых не выдержат переполненные мукой сердца, мы просим людей всего Мира взять наших детей, дабы не разделили они, ни в чем неповинные, нашей страшной участи, дабы могли мы хотя бы этой ценой — добровольной и вечной разлукой с ними на земле — искупить вину нашу перед ними, которым мы дали жизнь горше смерти.
— Все, кто имел детей и потерял их! Все, кто их имеет и боится потерять! Памятью, именем ваших детей призываем вас, да не останьтесь глухи к нам, умоляющим вас за своих детей! Избавьте нас от ужаса, от безумия видеть их погибающими и быть бессильными — уже не помочь, а только облегчить их страдания!
— Мир! Возьми наших детей! Возьми за пределы нашего ада, пока еще есть в них сила расти и жить, быть, как все дети, которые могут громко говорить об отцах, матерях и братьях, не боясь быть замученными за то, что они — не дети палачей. Сжальтесь над ними, не знающими ни единой радости, доступной ребенку последнего бедняка счастливых стран.