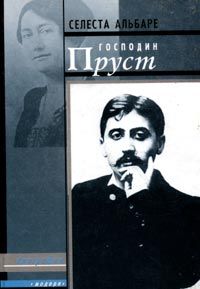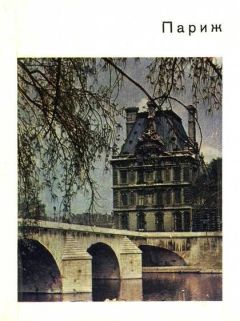"Ваш психологический Саксончик, малыш Марсель, как вы его называете, просто чудо, если судить по тому письму, кторое вы столь мило рассудили переслать мне. Его замечание о пассаже в "Глэдис", касающемся Жака Мюлона, свидетельствует об уме, который умеет осмысливать прочитанное, а его энтузиазм меня тронул. Передайте ему это, а я, как только разделаюсь с работой, которой сейчас завален, с большим удовольствием встречусь с ним. Поскольку его отец дал ему три совета, а вы четвертый, я дам ему пятый: пусть он не даст угаснуть в себе этой любви к литературе, которая его воодушевляет. Он разлюбит мои книги, потому что любит их чересчур сильно. Клод Ларше прекрасно знает, что слишком любить - значит скоро разлюбить. Но пусть он не разлюбит эту красоту искусства, которую предугадывает, которую ищет через меня, недостойного. И, хотя этот совет, переданный устами некоей Далилы, может показаться ему ироничным, скажите ему, пусть он работает, пусть развивает то, что несет в себе его уже столь недюжинный ум..."[29]
Каким же, наверное, странным малым он был! Как и у Рассказчика из его собственной книги, у него, казалось, не было четко определенного возраста. Ребенок? Подросток?
Непонятно. "В нем было гораздо больше от лицеиста, которым он едва перестал быть, чем от денди, которым хотел стать. Со своим цветком в петлице, со своим отложным крахмальным воротничком он оставался слишком уж школяром из Кондорсе. Позже у него появились завязанные как попало галстуки цвета морской воды, закрученные винтом брюки, мешковатый редингот. Тросточка, которую он гнул, подбирая одну из пары мятых, запачканных, жемчужно серых с черной отделкой перчаток, вечно падавшую, стоило ему натянуть другую. Эти повсюду забываемые разрозненные перчатки Марсель просил вас переслать ему в обмен на другую пару или дюжину пар, которые дарил вам в знак признательности за то, что нашли одну недостающую. То же самое с зонтиками, которые он забывал в фиакрах и прихожих; самыми обветшалыми из них он продолжал пользоваться, если вы их возвращали по его настоятельной просьбе, а вам покупал новый у Вердье. Его цилиндры были взъерошены словно ежи или скайтерьеры, из-за того что чистились против шерсти, терлись о юбки и меха в ландо или "трехчетвертных" [30] от Биндера..." [31]
На портрете, нарисованном Бланшем, мы видим его с чуть великоватой головой, с восхитительными глазами, "вся радужка - будто золотисто-коричневый ликер... неотступный взгляд, где приобретенная, наконец, печаль утопала в каком-то озорном лукавстве, где полное безразличие, которое ему внезапно хотелось напустить на себя, принимало золотистый отблеск его пылкости, мечтательности, нескончаемых замыслов"; густые, вечно непослушные черные волосы; несколько излишне светлый галстук, орхидея в петлице, смесь дендизма и изнеженности, смутно напоминающая Оскара Уайльда- "Неаполитанский принц для романа Бурже", - сказал Грег.
"Он чувствовал эту красоту. Тогда, выходя в свет летними вечерами, он не спешил и томно фланировал - легкое пальто приоткрыто на пластроне фрака, цветок в петлице - в то время модными были белые камелии; он наслаждался своей юношеской грацией, отражавшейся в глазах прохожих, с малой толикой мальчишеского самодовольства и крупицей той "искушенности в пороке", которой он обладал уже в восемнадцать лет и которая стала его Музой. Иногда он подчеркивал эту грацию, немного манерничая, но всегда остроумно, как преувеличивал порой свою любезность в комплиментах, всегда искусных; и мы в нашем кружке даже изобрели глагол прустифицироватв, чтобы обозначить такую, несколько чересчур сознательную, любезность - то, что в народе назвали бы бесконечными "расшаркиваниями"... [32]
Но даже те, кого он часто раздражал, с удовольствием продолжали видеться с ним, потому что он больше чем кто-либо другой был умен и занимателен.
Красноречивый и ласковый паж стольких женщин, Керубино, нежащийся в шелесте юбок, страстный любитель всего, что касается женского туалета, он, однако, признался Жиду, "что всегда любил женщин лишь духовно, а истинную любовь всегда испытывал только к мужчинам". Можно представить, как должен был мучиться этот пай-мальчик, вечно цеплявшийся за юбку своей матери, обнаружив в себе влечения, которые во многих других и в нем самом казались ему анормальными и порочными. Вот набросок из неизданных Тетрадей, который он многократно переделывал, прежде чем использовать в своей книге (в другом, несколько отличном виде), и который показывает, как склонность к чувственному извращению может зародиться в чистом сердце:
"Одни долго не замечали его и не понимали, что предмет их желания вовсе не женщины, когда, читая с каким-нибудь другом стихи или рассматривая непристойные гравюры, жались к нему, полагая это знаком их общности в желании женщин. Признавая то, что чувствовали в изображениях любви, которые предоставляли им поочередно литература, искусство, история, религия, они не догадывались, что предмет, к которому они относили свое чувство, был не тот же самый, и в пользу этого смешения прилагали к себе все их черты, последовательно наделяя свой порок романтизмом Вальтера Скотта, изысками Бодлера, рыцарской честью, печалями мистицизма, чистотой форм греческой скульптуры и итальянской живописи, ждали Роб Роя как Диана Вернон[33] и убеждали себя, что подобны остальному человечеству, потому что находили свою тоску, свои сомнения, свои разочарования у Сюлли-Прюдома и у Мюссе. Однако инстинктивно они умалчивали "имя того, что страданье сулит", подобно клептоману, который еще не осознал свой недуг и прячется... чтобы украсть что-нибудь".[34]
В продолжение всей своей юности он делал вид, будто испытывает к женщинам самые горячие чувства, а быть может, и испытывал их. Но он сам показал, что люди извращенные, чтобы защититься от враждебного к их поведению общества и из охранительной предосторожности носят маску: "Зеркало и стены их комнаты сплошь покрыты карточками актрис; они кропают стишки вроде: "Люблю белокурую Хлою -она так прекрасна собою - и сердце объято тоскою..." Кто знает, может, эти фотографии - зачаток лицемерия?"
В другом месте Тетрадей он объясняет, словно мучительно оправдываясь, что именуемое отклонением, быть может, естественно "особенно у молодых людей, из-за некоторого количества женских клеток, задержавшихся в них, порой довольно надолго, подобно детским органам, исчезающим с наступлением зрелости, а также из-за чувственной неопределенности возраста, еще наполненного смутной нежностью, которая влечет молодого человека всего целиком, душой и телом, еще не обожествившись и не определившись, к тому, кого он любит..." Он вспоминает "нелепость некоторых часов, когда совершаются поступки, противоречащие тому, на что человек обычно способен". Он уже с состраданием говорит об этом несчастном племени, которое "как от клеветы открещивается от того, что является невинным источником их мечтаний и наслаждений. Сыновья, лишенные матери, потому что вынуждены лгать ей всю жизнь, даже в те минуты, когда закрывают ей глаза..." Конечно, конфликт между сыновней любовью и любовью извращенной, которая столь сильно искушала его, потряс эту юную душу.