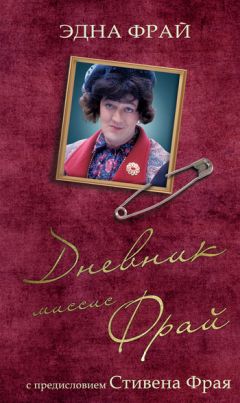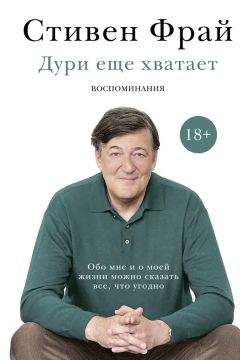– Мисс, мисс! Стивен Фрай пукает!
Ну разве так можно? Ни в какие ворота не лезет. В подобных случаях полагается хихикать, тихонько и радостно, или нос краем свитера прикрывать. А привлекать к такому событию внимание взрослого – поступок чудовищно непорядочный. Да к тому же я вовсе не был уверен, что взрослые хоть что-то понимают в пуканье.
Перемена уже подходила к концу, когда я краем глаза приметил мисс Меддлар, шарившую взглядом по игровой площадке. Я попытался укрыться за Мэри Хенч, она была покрупнее меня, однако Мэри сказала, чтобы я не изображал остолопа, и вытолкнула вперед.
– Стивен Фрай, – произнесла мисс Меддлар.
– Да, мисс?
– Мистер Кетт говорит, что вы так и не передали ему мой листок.
Мимо нас поспешали, толкаясь, мальчики и девочки, возвращавшиеся по классам.
– Нет, мисс. Все правильно, мисс. Его не было в классе. Он, наверное, вышел. Так что я оставил листок на его столе.
Произносилось все это залихватски. Бойко. Беспечно.
– А. Да, понятно. – На лице мисс Меддлар обозначилось легкое замешательство, но и только, никакого недоверия.
За дневным завтраком мистер Кетт подошел к моему столу и присел напротив. Я ощутил, как в меня впиваются тысячи глаз.
– Итак, молодой человек. Что это за разговоры о том, будто я нынче утром отсутствовал в классе? Я никогда моего класса не покидаю.
– Ну, я постучал, сэр, а вы не ответили.
– Постучали?
– Да, сэр. А вы не ответили, вот я и ушел.
– Мисс Меддлар говорит, что вы оставили на моем столе ведомость с оценками.
– Нет, сэр. Вы не ответили на мой стук, и я ушел.
– Понятно.
Пауза. Я, ощущая жар и покалывание во всем теле, не отрывал глаз от тарелки.
– Ну хорошо, отдайте мне ведомость, и мы…
– Ой. Я ее потерял, сэр.
– Потеряли?
– Да, сэр. На перемене.
На лице мистера Кетта обозначилась озадаченность. Запомни эту озадаченность, Стивен Фрай. Ты ее не раз еще увидишь.
Для того чтобы Нарцисс счел себя желанным для всех, вода, в которую он смотрится, должна быть спокойной и чистой. Если же человек глядит во взбаламученный пруд, он и отражение видит темное, искаженное. Таким прудом и было покрытое рябью муторного смятения лицо мистера Кетта. Ему лгали, однако лгали на редкость толково и по причинам решительно непонятным.
Я-то его замешательство различал совершенно ясно. Лицо мистера Кетта и сейчас стоит передо мной, и взбаламученность чувств в его глазах делает мое отражение в них весьма и весьма некрасивым.
Вот сидит умный мальчик, действительно очень умный. В школу он приходит из большого дома у дороги; его родители, хоть они в Норфолке и новички, люди, похоже, приятные, – пожалуй, их даже можно назвать ужасно приятными. В этой маленькой школе он проучится только один триместр, а после отправится в приготовительную. Кетт был человеком своей деревни, а стало быть, человеком много чего повидавшим. Умных детей он встречал и раньше, как встречал и детей из верхушки среднего класса. Этот мальчик представляется вполне приличным, вполне обаятельным, вполне порядочным, и все же он врет мне прямо в глаза, не краснея и не заикаясь.
Возможно, я вдаюсь в чрезмерные тонкости.
Очень маловероятно, что Джон Кетт помнит тот день. Да собственно говоря, я точно знаю – не помнит.
Разумеется, вдаюсь. Я усматриваю в этом случае то, что мне хочется в нем усмотреть.
Как и всякий учитель, мистер Кетт прозевал либо простил тысячи обличительных случаев, в которых из ребенка, отданного на его попечение, вдруг вылезал сокрытый в нем зверек. Надо думать, он каждый день желает сейчас доброго утра мужчинам и женщинам, которые и сами уже стали родителями и которых он видел когда-то бьющимися в безумных истериках; которых видел описавшимися, которых видел издевавшимися над другими детьми или сносившими их издевки; которые исторгали в его присутствии вопли ужаса, завидев крошечного паучка или заслышав раскаты далекого грома; которые мучили при нем божьих коровок. Да, конечно, спокойная ложь хуже животной жестокости или дикого страха, но эта вот ложь остается и всегда оставалась проблемой моей, а не Джона Кетта.
Дело о результатах контрольной и резиновом сапоге Мэри Хенч представляется мне эпизодом столь значительным просто потому, что я помню его очень ясно; иными словами, он значителен, поскольку я так решил, и это само по себе имеет для меня большое значение Похоже, он стал для моего сознания вехой, началом вереницы вранья на свой одинокий страх и риск и публичных разоблачений. Достоинство именно этой лжи состоит в том, что она была бессмысленной, чистой ложью, недостаток же ее в том, что совершена она была столь сознательно и столь безупречно. Когда Кетт уселся за мою парту, чтобы порасспросить меня, я нервничал – во рту сухо, сердце колотится, ладони влажны, – но стоило мне открыть рот, как я обнаружил, что не просто обратился в человека, лишенного нервов, но обрел полную уверенность в себе, стал самим собой в наивысшей из возможных степеней. Я словно открыл свое жизненное предназначение. Облапошивать собеседника, оставлять его в дураках, обманывать не просто без зазрения совести, но с гордостью, с подлинной гордостью. С гордостью потаенной, и это неизменно составляло проблему. Не с той гордостью, которой я мог поделиться со всеми где-нибудь на игровой площадке, но с секретной гордостью, которую лелеешь в себе, как скряга лелеет свое золото или извращенец – порнографические картинки. В часы, ведшие к разоблачению, я обливался потом от страха, а вот миг самого разоблачения определял меня в совершенстве: я преисполнялся страсти, возбуждения, счастья, сохраняя в то же самое время абсолютное внешнее спокойствие и уверенность в себе – плюс расчетливость, которая срабатывала за микросекунды. Лганье приводило меня в состояние, известное спортсмену, вдруг обнаружившему, что он пребывает в отличной форме, что движения его естественны и ритмичны, что бита/ракетка/клюшка/кий издает в его руке звуки сладостные и напевные, что он одновременно и расслаблен, и в высшей степени сосредоточен.
Я мог бы почти без натяжки сказать, что наступивший одиннадцать лет спустя миг, когда полицейский защелкнул на моих запястьях наручники, был одним из счастливейших в моей жизни.
Разумеется, найдется человек, который попытается связать это с актерством. Когда у актера все ладится с игрой, на него нападает такое же чувство владения временем, ритмом, чувство власти и скоординированности. В конце концов, актерство и есть лганье, совершаемое ради самой его чистой и утонченной радости, – так вы, наверное, думаете. Но только это не верно, во всяком случае для меня. Актерство есть говорение правды, совершаемое ради его чистой, душераздирающей муки.