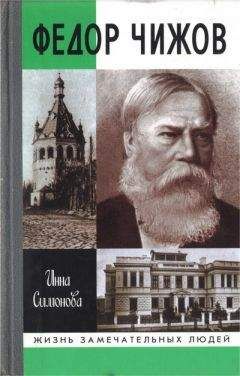Мудрый наставник владельца обширных земельных угодий и нескольких тысяч крепостных крестьян немало времени отводил беседам о социальной справедливости, о том, как лучше распорядиться судьбою данным богатством, учил презирать роскошь и пустоту светской жизни. И молодой человек постепенно приходил к выводу, что принятые в его среде знаковые символы, свидетельствующие о принадлежности к высшему сословию: дом-дворец с роскошью внешней и внутренней отделки, езда на рысаках по Невскому, ношение тончайшего белья и прочее, и прочее, — есть ничего не значащие условности, отнюдь не гарантирующие их обладателю ни подлинного счастья, ни самоуважения, ни признательной памяти потомков. «Вопрос: к чему… служит богатство? — размышлял он. — В положении Чижова человек, любящий науку, совершенно посвящает себя ей и тогда верно преуспеет… Следовательно, гораздо лучше быть в состоянии Чижова: он всегда прилично одет, всегда весел. Человек с его состоянием может давать бедным и помогать им, и эта жертва гораздо приятнее Богу, нежели жертва богача, который дает бедному от своего избытка»[39].
Галаганы настойчиво зазывали Чижова погостить у них на Украине, и летом 1838 года, во время студенческих вакаций, Федор Васильевич отправился вместе с Екатериной Васильевной и Григорием в одно из принадлежавших им многочисленных имений — село Сокиренцы Прилуцкого уезда Полтавской губернии.
Имение с первого взгляда поразило Чижова как своими масштабами, так и совершенной гармонией архитектурных форм с окружающей природой. Расположенное в пятидесяти верстах от Прилук, оно представляло собой большую старосветскую усадьбу с каменными воротами и флигелями для прислуги вдоль подъездной дороги, с просторным панским двухэтажным домом, опоясанным могучими трехсотлетними дубами, оставшимися от когда-то бывшего здесь леса. С балкона, декорированного портиком и колоннами, вел многоступенчатый спуск к лужайке, балюстрада которого была увенчана мраморными вазами и статуями… Когда в середине 1850-х годов Сокиренцы посетит Иван Сергеевич Аксаков, в письме к родным он так опишет свое впечатление от усадьбы и «великолепного замка» Галаганов: «Взглянув на дом и на сад, я сказал Галагану, что он не пан, а лорд Галаган, что его очень смутило и заставило оправдываться. В самом деле, я думаю, и герцог Девоншир был бы доволен здешним местом… Я не видал ничего лучше…»[40]
Галаганы любили Сокиренцы до самозабвения, и их восторженность передалась Чижову. Григорий, сопровождая Федора Васильевича в его первых прогулках по имению, выказывал похвальную осведомленность относительно исторического прошлого и настоящего имения и отвечал на расспросы с исчерпывающей полнотой. Сокиренцы площадью в 140 десятин (80 десятин под садом и 60 под парком) были получены более века назад его прадедом полковником Игнатием Ивановичем Галаганом от самого Петра I в качестве награды за взятие в плен шведского отряда вместе со всей армейской казной.
Поначалу усадебный дом был построен во вкусе Людовика XVI, но при этом имел и некоторые приметы типично малороссийского «будинка». Так, к примеру, одна из комнат в нем была «о трех стенах», а четвертая, со стороны сада, отсутствовала вовсе. Рядом был разбит цветник, окруженный решеткой, и от него шла весьма оригинальная аллея, кончавшаяся большим, «в помпеевском вкусе», павильоном для увеселений — «залой».
Вступив в права наследования в 1823 году, отец Григория Павловича Павел Григорьевич Галаган, человек вполне европейский, хорошо образованный и большой эстет, затеял преобразование усадьбы в духе нового времени. Он пригласил привезенного из Саксонии соседом по Лохвицкому уезду графом Милорадовичем ученого садовника Бистерфельда и поставил перед ним задачу: переделать прежний, во французском вкусе, регулярный сад — в сад английский, романтический, близкий к природе. Одновременно из Москвы был выписан известный архитектор Дубровский. За три года он построил на новом месте дом в «имперском», классическом стиле, а старый, «предковский дворец», был впоследствии разобран. Остались лишь вековые дубы, окружавшие его, да липы и клены в несколько обхватов. Дворцово-парковый ансамбль включал каменную церковь, мост через лощину, башню в готическом стиле, гроты, беседки, оранжереи, дороги для прогулок в экипажах.
В одном из урочищ обширного сада Григорий подвел Чижова к исполинскому клену. Под его кроной мог разместиться целый батальон солдат: от одного края ветвей до другого было 42 шага в поперечнике!
Неподалеку, в низине, у пруда, стоял «священный дуб» с вросшим в него со времен казачества образом. Никто из старожилов не мог объяснить, как икона туда попала, но доподлинно было известно, что она уже не единожды затягивалась дубовой корой, и ее вновь и вновь приходилось вырубать из древесного плена.
Весь строй жизни в имении был благочестивым, скромным, даже строгим. Ежедневно Екатерина Васильевна приходила к могиле мужа, нередко в сопровождении детей. Фамильный склеп Галаганов находился в одном из дальних уголков сада. Над ним в скором времени должна была быть возведена пятиглавая церковь во имя святых апостолов Петра и Павла.
Мать и сын, казалось, стеснялись своего богатства. В доме не было показной роскоши. Вся роскошь, подчеркивали они в разговорах с гостями, — в саду. При этом особо пояснялось, что сад образцово содержится не «панщиной» (барщиной), а наймом, — вольнонаемный труд был в то время явлением чрезвычайно прогрессивным.
Другой гордостью Галаганов был оркестр, славившийся далеко за пределами Полтавщины. Многие крепостные музыканты, входившие в его состав, были учениками лучших педагогов Москвы и Санкт-Петербурга.
Екатерина Васильевна вела огромное хозяйство единолично. Она была приветлива и любезна с крестьянами, все исполнялось по ее воле и приказанию, отдаваемому самым кротким и ласковым голосом, и никто не осмеливался ее ослушаться. Понемногу она вводила сына в дела управления имениями. Григорий был горд и счастлив. Ему казалось, что крестьяне, участь которых вручена Галаганам по Промыслу Божиему, не могут испытывать к своим хозяевам иных чувств, кроме любви и благодарности. «Здесь всё наше, ни одного человека не видно чужого, — громко восклицал, обращаясь к Чижову, Григорий, театрально разводя руками. — И как приятно, когда всё это нас любит, к нам привязано…»[41]
Однако на деле не все оказалось так идиллично. Стали поступать жалобы на плутовство и злоупотребления деревенской администрации, и тогда юный помещик закипал в негодовании, изливая свои чувства в откровенных беседах с наставником: «О, как я с нетерпением жду того времени, когда выйду из университета и когда маменька даст мне власть над деревенскими старостами, — эти бестии у меня не найдут уголка; я явлюсь для них тираном и, напротив, буду заходить в избы крестьян, буду их расспрашивать, они будут меня любить!»[42]