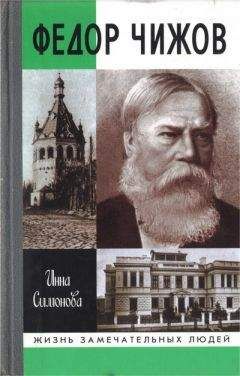Судя по дневнику Григория Галагана, который он продолжал вести по настоянию Чижова, в его душе и поступках постоянно присутствовало раздвоение. Мятущийся дух пытался выйти на прямую жизненную дорогу, но вместо этого то и дело был терзаем и сбиваем с толку внутренними борениями и противоречиями. Нередко в его словах и делах проступал малоприятный образ «сокиренского паныча», владельца четырех тысяч (а с получением в будущем наследства бездетного дяди Петра Григорьевича Галагана — и семи тысяч) крепостных крестьян. «Стыжусь написать в журнале, что чувствую, — признавался он, — потому что нахожу эти чувства не совсем похвальными и плодами пустого и сильного тщеславия. Мне страх как приятно делать вид господина и господина-деспота, важничать перед мужиками, которые ходят вслед, чтобы на меня насмотреться или чтобы подать жалобы, искать милости. Мое сердце бьется приятно, когда толпа мужиков мне низко кланяется и я гордо мимо них прохожу и благосклонно отдаю им их поклоны легким киванием головы. Какое тщеславие! Но вместе с тем, как это льстит бесхарактерной душе!»[43] Видя в своих крепостных «детей малых», он считал, что примерным наказанием вправе устрашать дворню, велеть высечь провинившегося мужика за пьянство, раздавать направо и налево пощечины… Но проходили первые минуты ярости, и он тут же, спохватившись, уже корил себя за «панычевские наклонности», припоминая советы «мудрого Федора Васильевича», пытался поставить себя на место крепостного крестьянина, «влезть в его шкуру»: «Я бы ненавидел моего помещика от того только, что он мой неограниченный господин, что я принадлежу ему…»[44]
Как ученик народолюбца Чижова, он начинал задумываться над тем, как облегчить участь «крепостных рабов», извлечь пользу из своего привилегированного положения для ближнего, сделать как можно больше добра, оправдать свое богатство перед своею совестью. Но по молодости лет подобные размышления чаще всего выливались не в конкретные дела, а в банальные сетования на свою «жестокую судьбу» барина: «Я сегодня нечаянно подслушал разговор людей, т. е. лакеев, между собою; они говорили о нас, но я ничего не мог расслышать… С этой минуты у меня возросла ужасная жажда узнать, какого они все обо мне мнения. Что, если они меня не любят? Это ужасно! Зачем я, презренное существо, родился, чтобы сделать столько несчастных?.. О жестокая судьба! Зачем вложила ты меня в недра жены богатого помещика? Зачем я осужден быть невинным виновником несчастия стольких людей? О, лучше я желал бы быть бедным, нищим, разбойником…»[45]
Пройдет не один год, прежде чем благодаря урокам о социальном равенстве, преподанным Чижовым, Григорию Павловичу Галагану удастся выработать из себя лишенного сословных предрассудков носителя истинного просвещения, устроителя судеб крепостных крестьян Украины и его имя станет в этих краях вровень с именем его учителя…
Посетив впервые Сокиренцы, Чижов навсегда полюбил этот край, с его плетнями и садками, пряным запахом белой акации и неумолкаемыми соловьиными переливами. Украина так подействовала на него, что по возвращении в Петербург он подверг пересмотру свою, казалось бы, устоявшуюся жизнь университетского профессора, сулившую в ближайшем будущем новый взлет в профессиональной карьере. Его неодолимо влекла свобода, возможность всецело посвятить себя литературной деятельности. Если прежде, в занятиях точными науками, им руководило стремление познать фундаментальные законы физического строения мира, то отныне его главным увлечением становится история изобразительных искусств, в изучении которой ему виделся «один из самых прямых путей к изучению истории человечества».
Летом 1840 года Чижов совершил непрактичный с точки зрения окружающих шаг — под предлогом ухудшения здоровья он оставил преподавательскую деятельность (официальное увольнение из Министерства народного просвещения последует только в 1845 году). «Слава Богу, или не слава Богу, но лекции закончились, — с легкой грустью записал он в своем дневнике. — Прощай математика, ex profession, прощай моя добрая демократическая наука»[46].
Едва освободившись от тяготившей его повинности еженедельного присутствия в университете, он ненадолго заехал к родным в Кострому и затем вновь поселился в гостеприимных Сокиренцах, где неожиданно для себя остался до лета следующего года. Кроме желания вволю пожить в полюбившихся ему местах, он хотел здесь основательно подготовиться к предстоящей совместной с Галаганами поездке за границу с целью сбора материалов для будущего искусствоведческого исследования. В благословенной малороссийской глуши он мог погрузиться в изучение основ социологии и истории искусств. Благо, нужные книги были под рукой — в богатом книжном собрании хозяев имения.
К этому времени Григорий Галаган окончил курс юридических наук и, не желая долее задерживаться в северной столице, чей климат для него был «подобен яду», поспешил на милую его сердцу родину, входить в права полноправного хозяина галагановской «маетности».
В Сокиренцах Чижов близко сошелся с родственниками Галаганов, многие из которых в той или иной степени сыграют важную роль в его дальнейшей жизни. При нем совершилась помолвка и свадьба сестры Григория, 17-летней красавицы Марии Павловны и юного графа Павла Евграфовича Комаровского, сына генерала от инфантерии, командира корпуса внутренней охраны Его Императорского Величества Николая I графа Евграфа Федотовича Комаровского. Брат Павла, адъютант принца Евгения Вюртембергского, впоследствии член Комитета иностранной цензуры граф Егор Евграфович Комаровский, был женат на сестре поэта Дмитрия Владимировича Веневитинова, Софье Владимировне, а его сестра, графиня Анна Евграфовна — которой сам Александр Сергеевич Пушкин посвятил стихи «В младенчестве моем она меня любила…», была замужем за генерал-адъютантом, будущим военным губернатором Казани и сенатором Сергеем Павловичем Шиповым. Пройдет двадцать лет, и с братьями Шиповыми, особенно с Александром и Дмитрием Павловичами, крупными костромскими помещиками и заводчиками, будет связано начало предпринимательской деятельности Чижова.
Граф Павел Евграфович Комаровский, землевладелец Орловской губернии, служивший в гвардии, после женитьбы вынужден был выйти в отставку и остаться жить в Сокиренцах, так как его супруга Мария Павловна была настолько привязана к матери и брату, что ни за что не хотела покидать родной кров. Нередко во время домашних концертов в доме тещи граф исполнял на церковном органе, возвышавшемся в огромной бальной зале, сложные полифонические произведения Баха и Генделя.