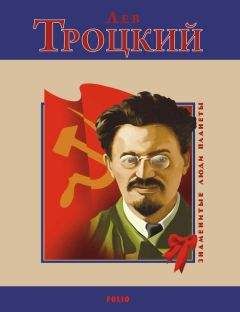Надзиратель растерялся, дать тревожный сигнал, однако, отказался. Мы все столпились около него. Бронштейн, стоя впереди всех, вынул часы и, держа их перед собой, торжественно заявил надзирателю: «Даю две минуты на размышление». Когда срок ультиматума истек, Бронштейн, отодвинув, несопротивлявшегося надзирателя в сторону, величественным жестом надавил кнопку. Затем мы все, надвинув шапки на головы, вышли во дворик. Через короткое время щёлкнул замок железной калитки, она с шумом распахнулась, и во дворик, окружённый огромной свитой вооружённых надзирателей, влетел начальник.
«Почему шапки не снимаешь?» — заорал он, кинувшись к Бронштейну, стоявшему впереди всех и, по-видимому, имевшему наиболее вызывающий вид: «А ты почему шапки не снимаешь?» — с достоинством ответил Бронштейн.
«В карцер его!»
Несколько дюжих надзирателей подхватили Бронштейна и унесли в карцер. С тем же криком начальник подбежал ко мне и другим, с теми же результатами.
В карцере мы просидели сутки, после чего нас, всех участников «бунта», перевели в башню с одиночными камерами, и мы вздохнули с облегчением: наша давнишняя мечта сбылась.
После этого мы не долго оставались в московской пересыльной тюрьме. 3-го мая 1900 года нас, наконец, отправили. Мы ехали без пересадки до Иркутска в отдельном вагоне. Конвой обращался с нами хорошо, и это путешествие было довольно приятным. Оно продолжалось 13 дней, нас из вагона все время не выпускали, и к нам никого не впускали. Бронштейн, однако, ни к чему не обнаруживал никакого интереса. Он весь был поглощён А. Соколовской.
Мы прибыли в Иркутск. Там в тюрьме я провел неделю вместе с Бронштейном и другими товарищами. Затем мы расстались: нас разослали в разные места. Бронштейна я, однако, не потерял из виду. Связь между нами поддерживалась перепиской; хотя надо сознаться, поддерживалась она не очень деятельно, а потом и совсем прекратилась: не было реальных связей и общих захватывающих интересов.
За то я имел возможность следить за ним по печати. В Иркутске выходила прогрессивная газета «Восточное Обозрение», которую читали все ссыльные, и в которой почти все они сотрудничали (присылая корреспонденции о местной жизни, часто содержавшие очень интересный и ценный этнографический материал).
Такой человек, как Бронштейн, не мог не обратить на себя внимания, и редакция скоро заключила с ним лестно-выгодный для него, по условиям того времени, договор о сотрудничестве.
При отправке первой статьи, однако, возник очень серьёзный вопрос о псевдониме. Решить его было не так легко, как это может показаться с первого взгляда. Назвать себя, как большинство поступало, по какому нибудь женскому имени: Тасин, Манин, Ленин, Мартов и т. п., или по месту жительства: Ангарский, Ленский, Печерский и т. п. Бронштейн, разумеется, не мог уже хотя бы потому, что так делали другие, а он не мог быть «как другие». Самым простым выходом было бы назвать себя своей настоящей фамилией, это было бы в высшей степени оригинально: никто так не поступал. Но это было ещё более невозможно. Этого вопроса он даже не ставил. Назвать себя Бронштейном значило навсегда прикрепить к себе ненавистный ярлык, указывающий на его еврейское происхождение. А это было как раз то, о чём он хотел, чтобы все, как можно скорее и основательнее, забыли. Его отчуждение от родителей в ранней молодости, пожалуй, в значительной степени можно объяснить нежеланием иметь перед собою слишком реальное напоминание о его национальности: отец имел типичный черты и повадки еврея.
Наконец, выход был найден. Бронштейн открыл имевшийся под рукой итальянский словарь, и первое слово на странице должно было стать его псевдонимом. Слово это оказалось «Antidoto» (противоядие). И Бронштейн назвал себя «Антид Ото».
Успех его в газете был такой, что о большем и мечтать невозможно было. Его честолюбие должно было получить полное удовлетворение; во всяком случае, максимум того, на что можно было рассчитывать при данных обстоятельствах.
Но, понятно, что эта литературная деятельность в сравнительно маленькой газетке, к тому же находящейся за тысячи вёрст, не могла заполнять и далеко не заполняла его жизни. У него оставалось очень много свободного времени и ищущей выхода энергии, которую решительно некуда было расходовать. И он принимал деятельное участие во всех играх и развлечениях, которыми ссыльные старались скоротать время. Особенно пристрастился он к крокету, отчасти, может быть, потому, что характер, этой игры, более, чем всякой другой, давал особый простор проявлению его природной ловкости, сообразительности и находчивости. И тут, как всюду и во всем остальном, где ему представлялся случай так или иначе проявить свою индивидуальность, Бронштейн органически не переносил соперников рядом с собой: и одержать победу над ним в крокете было самым верным средством приобресть злейшего врага в нём.
Слава о литературных талантах Бронштейна росла и скоро дошла до заграничных революционных кружков. Руководящим органом русских социал-демократов в то время была издававшаяся в Женеве и тайно переправлявшаяся в Россию газета «Искра». Несмотря на то, что во главе её стояли такие силы, как Г. В. Плеханов, родоначальник научного социализма в России; его не менее великий антипод Ленин, вождь большевиков и вершитель судеб России впоследствии, Аксельрод, Засулич, Дейч, Потресов, Мартов, — «Искра» не могла пренебречь такою восходящею звездою, как Бронштейн. И он получил приглашение принять активное участие в газете. Бронштейн не заставил себя долго ждать. Он бросил крокет, жену и двух детей (второй только что родился) и бежал из ссылки, пробыв там около года. На время я потерял его из вида.
Глава пятая
Заграницей
II-ой съезд Р. С. Д. Р. П. и раскол в партии. — Большевики и меньшевики. — Бронштейн-Троцкий, Плеханов и Ленин
В ноябре 1902 года я, окончив, срок ссылки, вернулся в Николаев. Там, мне скоро пришлось с головой окунуться в дела местной социал-демократической организации. Хотя память о Sturm und Drang периоде времён Львова (Бронштейна) ещё не умерла, но организация влачила жалкое существование. В то время, как при Бронштейне подпольно-общественное дело было всё, а частная жизнь революционера была лишь придатком к ней (вспомните «Вера без дела мертва есть»), — теперь интеллигенты, стоявшие во главе организации, были заняты своими частными делами, отдавая революции лишь крохи свободного от личных дел времени, да и то ещё с опаской, как бы не повредить себе и своей кое-как налаженной маленькой карьере.
Понятно, что при таких условиях, дела шли через пень-колоду.