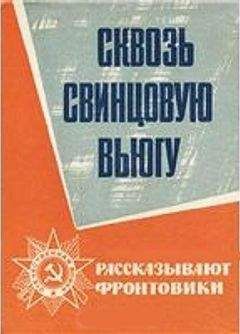Я поднимаю перископ и приступаю к наблюдению. Но не тут-то было: немцы тоже выставили наблюдателей. Нас обнаружил фашистский автоматчик.
— И работу нам сорвет, и перископ доконает, вражина, — с досадой говорю я Файзуллину.
Тот молчит и вдруг хлопает себя по лбу:
— Автоматчика стрелять надо! Из ППШ.
План уничтожения вражеского автоматчика у Фазуллина весьма прост: засечь по вспышкам выстрелов, где притаился фашист, незаметно подползти и взять на мушку. Чтобы установить, откуда стреляет немец, применяю хитрость: к черенку лопаты привязываю карманное зеркальце и поднимаю его вверх. Над головой снова начинают дзенькать пули. Одна из них попадает в зеркальце. Оно разлетается на мелкие осколки. Вдали, за крайним суслоном ржи, взметнулось едва заметное облачко дыма. Так вот он где, гитлеровец! Однако бьет метко. Ну что ж, потягаемся — кто кого.
Смерть на фронте ходит в образе вражеского солдата. Надо научиться воевать лучше его, быть умнее, опытнее, хитрее, и тогда враги будут бояться смерти, а не мы.
Выбравшись из окопчика, Файзуллин пополз влево. Томительно текут секунды. Все дальше и дальше уползает от меня Абдулл. Вот он пересек высотку и скрылся за суслонами. Я стараюсь отвлечь внимание немецкого автоматчика. Выставляю над головой лопату, а затем несколько раз не торопясь попеременно то опускаю, то поднимаю ее. Отполированная поверхность вспыхивает на солнце режущим глаза блеском. «Вж-вж!» — проносится над ухом.
И вдруг короткая автоматная очередь. Сомнений нет: это Файзуллин расправился с гитлеровцем. Он подползает к окопчику усталый, запыленный, лоб покрыт бисеринками пота, а глаза сияют.
— Автоматчик капут! Самую голову попал.
Так и хочется обнять и расцеловать парня. Молодчина!
Прильнув к окуляру, замечаю свежую насыпь окопных брустверов. Она проходит чуть левее ржаных суслонов. Окопы были отрыты, видимо, этой ночью. Глаз отчетливо различает влажные, лоснящиеся на солнце комья земли.
Я рассказал о своих предположениях Файзуллину и передал ему перископ. Он внимательно вгляделся и решительным тоном сказал:
— Немец боевое охранение делал. Хитрый, супостат. Ночью окоп рыл.
В полдень к нам приползли Давыдин с Кезиным и Хворостухиным. Вид у ребят хмурый, утомленный.
— Шабаш, паря! — усмехнулся Давыдин. — Поползаешь по этой кострике, самого волка слопаешь.
Он жадно втянул в себя махорочный дым оставленной Файзуллиным самокрутки и сказал:
— Айда, братва, на батальонный КП. Там и перекусим.
Командный пункт стрелкового батальона разместился на месте сожженной деревушки Ожигово. На косогоре торчат печные трубы, бурно разросся чертополох. Солдаты построили здесь добротные землянки.
Находим какой-то погреб, чудом уцелевший при бомбежке, оборудуем импровизированный стол: на порожнюю кадку кладем дубовую дверь. Предприимчивый Леша Давыдин отыскал гильзу противотанкового ружья, приладил фитиль, заправил гильзу ружейным маслом — и лампа готова. Кезин чиркнул спичкой, поднес ее к фитилю. Вначале несмело, потом все более оживляясь, затрепетал язычок пламени.
Файзуллин куда-то исчезает. Вскоре он возвращается с котелком, доверху наполненным жирным свежим мясом. Мы недоуменно переглядываемся.
— Где ты свеженины раздобыл?
— А тут в одном подвале нашел. Мясо — первый сорт, — нимало не смутясь, отвечает Файзуллин.
Достать дров и разжечь печурку — дело одной минуты. Кезин сходил вниз, к речке Вытебеть, и принес оттуда полный котелок воды. В погребе разнесся аппетитный запах мяса.
За повара у нас Файзуллин. Помешивая алюминиевой ложкой в котелке, он чему-то таинственно улыбается. Наконец свеженина готова. Рассаживаемся вокруг дымящегося котелка. Мясо кажется необыкновенно вкусным. Давно не едали такого. Надоели пшенные концентраты, супы-пюре, тушенка. За несколько минут опорожнили весь котелок.
Облизывая ложку, Давыдин мечтательно говорит:
— Вот это говядина. Первый сорт, паря! Не послать ли еще?
Файзуллин добродушно усмехается:
— Мяса сколько хочешь. Возле речки, в кустах, молодая кобылка лежит. Осколок летел, бок вырвал. Мяса много...
Давыдин начинает ругаться.
В наблюдении нам предстоит провести еще целую ночь. Надо засечь новые немецкие батареи. До наступления темноты остается еще часа три. Что бы сейчас приготовить на ужин? О концентратах никто не вспоминает.
— Опять бы кобылятины отведать, — вслух мечтает Кезин. — Да из такого мяса лучшие ресторанные блюда можно готовить. Рагу, бифштексы, шницели...
— Бери, «академик», котелок. Принесем твоего бифштекса, — по-хозяйски распоряжается Файзуллин.
Они уходят.
В погребе на столе лежит затрепанный томик Лобачевского: это Кезина. Он никогда не расстается с ним. Внимательно листаю страницы. Из-за плеча заглядывает Давыдин. В его окающем говорке чувствуется большая сердечность и теплота.
— А наш «академик», паря, настоящим солдатом становится. Думал, какой из него, растяпы, разведчик выйдет. Видать, ошибся. Таких ребят, как он, еще поискать надо. Сегодня молодцом держался. Вокруг пули жужжат. Автоматчик строчит. А он ползет себе, помалкивает. Такой чудак! А помнишь, первое время как от самолетов хоронился, плашмя в окопе лежал.
Вечером, перед уходом группы в ночное наблюдение, Кезин подошел ко мне:
— Хочу, Петрович, поговорить по секрету...
Мы вышли из погреба. Над землей уже спустились лиловые сумерки. На западе догорал мутный кирпичного цвета закат. Разноцветные плети трассирующих пуль полосовали темнеющее небо.
Вид у Федора угрюмый, почти озлобленный. Не глядя на меня, он сердито начал:
— Каким подлецом оказался этот Хворостухин. Ходили мы с ним за дровами к речке. А вода в ней, сам знаешь какая — лед. Смотрю, Хворостухин разулся и потными ногами — в воду. «Зачем ты так делаешь?» — спрашиваю. «Закаляться решил». Я сразу понял эту «закалку»: простудиться захотел, кашлять начнет. А с кашлем, известно, кто его на задание пошлет? Я все это ему и высказал. А он, стервец, просить начал, дескать, никому не рассказывай, и пусть этот случай между нами останется. От этих слов меня затрясло. Не стерпел и дал ему в зубы.
Рассказ Кезина не удивил меня. Фальшь в поведении Хворостухина я замечал давно. Когда столкнулся с делом, вся его отвратительная душонка раскрылась полностью.
Мы вернулись в погреб. Кезин по моему совету обо всем рассказал Давыдину. Обычно спокойный, уравновешенный, сибиряк еле сдерживал себя:
— Негодяй, предатель! Вот ты каким треплом оказался!
Ссутулившийся, бледный, Хворостухин выглядел жалким и ничтожным. На следующий день он действительно почувствовал недомогание и начал кашлять. Из разведроты он был немедленно отчислен.