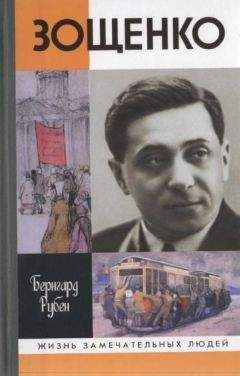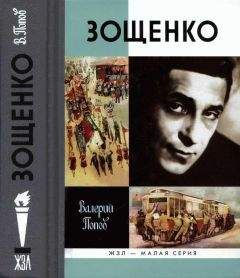Ознакомительная версия.
«Каждый день я подхожу к забору, на котором наклеена „Красная газета“.
В газете „Почтовый ящик“. Там ответы авторам.
Я написал маленький рассказ о деревне. И послал в редакцию. И вот теперь не без волнения ожидаю ответа.
Я написал этот рассказик не для того, чтобы заработать. Я — телефонист пограничной охраны. Я обеспечен. Рассказ написан просто так: мне казалось это нужным — написать о деревне. Рассказ я подписал псевдонимом — М. М. Чирков.
Моросит дождь. Холодно. Я стою у газеты и просматриваю „Почтовый ящик“.
Вижу: „М. М. Чиркову. — Нам нужен ржаной хлеб, а не сыр бри“.
Я не верю своим глазам. Я поражен. Может быть, меня не поняли?
Начинаю вспоминать то, что я написал.
Нет, как будто правильно написано, хорошо, чистенько. Немножко манерно, с украшениями, с латинской цитатой… Боже мой! Для кого же это я так написал? Разве так следовало писать?.. Старой России нет… Передо мной — новый мир, новые люди, новая речь…»
Естественно, он тотчас решает, что никогда более не «склонится к интеллигентскому труду». Но полученный хлесткий щелчок, этот «сыр бри», вызывает в нем нужную внутреннюю работу, плодотворное осознание того, что перед ним — «новый мир, новые люди, новая речь». Он на собственном опыте понял, как не надо писать. И это обретенное понимание направляет его не к отступлению, а к упорному поиску своего пути в литературе. Более того, в этот момент он окончательно утверждается в своей главной жизненной цели, о чем свидетельствует в своих воспоминаниях и В. В. Зощенко:
«В декабре восемнадцатого года он зашел ко мне, приехав на несколько дней с фронта, из Красной Армии. В коротенькой куртке, переделанной им самим из офицерской шинели, в валенках…
Я сидела перед топящейся печкой — в крошечной моей „гостиной“ на Зеленой улице, дом 9.
Он стоял, прислонившись к печке.
Я спросила его:
— Что же для вас самое главное в жизни?
И была уверена, что услышу: „Конечно же, вы!“
Но он сказал очень серьезно и убежденно:
— Конечно же, моя литература…
И это была правда. Правда всей его жизни, потому что не было у него ничего „главнее“ его литературы, которой он отдал всего себя без остатка».
Здесь точно зафиксирована свойственная уже вполне сложившемуся, как характер, Зощенко линия его жизненного (и житейского) поведения.
И еще одно уяснение произошло тогда же, судя по его последующим шагам: коли заниматься литературой всерьез, профессионально, надобно войти с нею в непосредственный контакт, а не через газетный «почтовый ящик».
Так, наряду с освоением простонародного круга жизни ему потребовалось еще вхождение в круг литературный, освоение изнутри шедших там процессов, что тоже заняло около трех лет (причем оба «хождения» шли частью параллельно).
Эти уже совершенно целенаправленные литературные поиски начались вслед за полугодичным пребыванием его на фронте гражданской войны под Нарвой и Ямбургом в 1-м Образцовом полку деревенской бедноты, где он был командиром пулеметной команды, потом полковым адъютантом, и откуда снова попал в госпиталь по болезни сердца.
А летом 1919 года агент уголовного розыска Зощенко, ведомый своим сокровенным поводырем, появился в только что открывшейся Студии при издательстве «Всемирная литература», которым руководил сам Горький. «Всемирка», как ее называли энтузиасты этого масштабного дела, предназначалась дать русскому читателю в образцовых переводах лучшие произведения стран и народов всего мира. И Студия должна была готовить для издательства кадры переводчиков. Нечто вроде курсов молодых переводчиков — таков был первоначальный замысел ее организаторов, быстро претерпевший, однако, кардинальные изменения.
Расположилась Студия в самой обширной квартире весьма вычурного снаружи дома, еще недавно принадлежавшего богатому греку Мурузи. В этом доме на углу Литейного проспекта и Спасской улицы жил в прежние — «мирные» — годы известный писатель и публицист Мережковский, который впоследствии, как «белоэмигрант», был вычеркнут (вместе со своей женой поэтессой Зинаидой Гиппиус) на семьдесят советских лет из отечественной культуры. И в этом доме, уже в шестидесятые годы, до суда над ним и ссылки, проживал будущий Нобелевский лауреат по литературе Иосиф Бродский, также вынужденный потом эмигрировать из-за невозможности жить и творить в родной стране. Таким образом, дом Мурузи, стоящий и поныне в Санкт-Петербурге (вернувшем себе исконное название в начале 90-х годов), получил свою литературную судьбу.
Подобно другим студийцам «с улицы», Зощенко пришел в этот дом по объявлению (тогда вообще открывалось много всевозможных студий — театральных, цирковых, рисовальных, вышивальных, и повсюду были расклеены объявления). Народ в Студии при «Всемирке» собрался различный. Выделялись два вундеркинда — пятнадцатилетний школьник Владимир Познер, знавший наизусть Маяковского, Гумилева, Мандельштама, Ахматову и сам непрерывно писавший эпиграммы, пародии, юморески; и университетский студент Лев Лунц, поэт, тоже по виду юный школьник, свободно говоривший на пяти языках и прочитавший на них гору книг. Тут же за партой сидели широкоплечий, рослый, в кожанке и высоких сапогах, парень-коммунист Глазанов и благовоспитанный Михаил Слонимский, застенчивый, с печальными глазами молодой человек из литературной семьи, у которого дед, отец, дядя и тетя — все были писатели. Эти двое, побывавшие на войне, были переполнены впечатлениями, которые намеревались воплотить в своих произведениях. Имелись здесь, разумеется, и начинающие поэтессы. Эта часть студийцев совершенно не интересовалась мастерством перевода, их влекло собственное творчество, и Студия скоро превратилась в их клуб. Им требовалось активное литературное общение, чтение друг другу написанного, немедленный отклик.
Один из организаторов Студии К. И. Чуковский так написал о них в своих воспоминаниях:
«…их можно было принять за лунатиков, одержимых литературой как манией. Их жаркие литературные споры могли со стороны показаться безумными. Время стояло суровое: голод, холод, гражданская война, сыпной тиф, „испанка“ и другие болезни. К осени четверо наших лучших студистов погибли — кто в боях с Колчаком, кто — на койках заразных бараков. Нужна была поистине сумасшедшая вера в литературу, в поэзию, в великую ценность и силу словесного творчества, чтобы несмотря ни на что, в таком мучительно-тяжелом быту исподволь готовиться к литературному подвигу».
Эта вера в литературу поддерживалась у студистов и самими руководителями Студии, ведшими постоянные семинары. В этих стенах, писал К. И. Чуковский, «бушевал Виктор Шкловский, громя и сокрушая блюстителей старой эстетики; …таблицами рифм и ритмов соблазнял свою паству Николай Гумилев; …чудесные плел кружева из творений Белого, Лескова и Ремизова хитроумный Евгений Замятин…» И еще: «Студия с первых же дней походила на Вавилонскую башню. Каждый пытался навязать молодежи свой собственный литературный канон. Мудрено ли, что в первый же месяц студисты разделились на враждебные касты: шкловитяне, гумилевцы, замятинцы». В этот перечень надо добавить и «чуковистов»…
Ознакомительная версия.