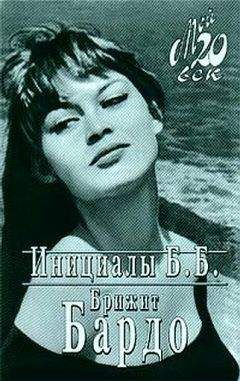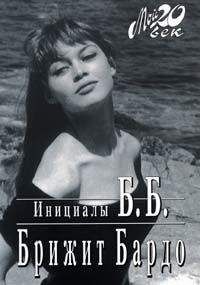В круизе я познавала мир. Все, что я видела, было мне внове. Не сводила глаз с элегантной Капюсин — изучала. И красилась, как она, и мечтала одеваться так же, и быть такой же в точности! Вдобавок, наблюдала шашни и шуры-муры в нашем узком пассажирском кругу. Возраст, простодушие и чистота меня, слава Богу, от них уберегли!
Я открыла другие страны, обычаи, традиции.
В Гавр я прибыла в слезах и мечтах.
А папа с мамой все еще пытались разлучить меня с Вадимом. Брак с ним, богемным и бездомным, родителям казался мезальянсом. И, хотя он был сыном русского консула по фамилии Племянников, никакого положения не имел и был не «нашим».
* * *
Вернувшись в Париж, я снова снялась для журнала «ELLE», увиделась с Вадимом, и жизнь снова вошла в свое русло. Мало-помалу обо мне заговорили в газетах.
Но как мне назваться?
Отец не желал, чтобы трепали имя Бардо. У мамы девичья фамилия красивая! Мюсель — почти как Мюссе. И я подписалась Брижит Мюсель, но снимки вышли с подписью — Брижит Бардо.
Странно! Но назад ходу нет!
Зато какое наслаждение ехать в автобусе и видеть, как вокруг читают обо мне. Я на обложке иллюстрированного журнала, я на страницах толстого еженедельника… Не могу опомниться!
Мир принадлежал мне, потому что я еще не принадлежала ему…
Я брала все и не давала взамен ничего. Райское блаженство! Быть ничем. Стать без славы прославленной.
И пошло-поехало: режиссеры, просто любопытные, все хотели со мной познакомиться. Предложили сниматься в кино… На телефонные звонки отвечал отец… Началась путаница. Нужен был импресарио. Но какой? События нас опередили.
Экзамен на бакалавра? Или диплом в балетной школе? Или кино?
Я уже не знала, куда податься.
Колетт подыскивала девушку на роль Жижи в театре.
Вадим был немного в курсе и встретился с ней в Пале-Рояле у нее дома, чтобы поговорить об инсценировке книги. Я пошла с ним и так, в 16 лет, познакомилась с этой выдающейся женщиной!
Она сидела, раскинувшись в шезлонге у окна, выходившего в дивный пале-рояльский сад. Тут же находился ее муж, Морис Гудке, Вадим, я и множество кошек. Она посмотрела на меня долгим острым взглядом. Глаза ее были проницательны и умны. От этого взгляда я ужасно робела. Он словно пронизывал, раздевал, судил, оценивал, а я не понимала, зачем, ведь я пришла просто так, с Вадимом. Наконец она мне сказала:
«Здравствуй, Жижи».
Я опешила.
Она пояснила, что я в точности — ее героиня, и спросила, не актриса ли я и не хочу ли сыграть эту роль.
Я онемела. Вадим ответил за меня, объяснив, что я смущена, растеряна и вообще новичок. Никогда не забуду эту темную гостиную, заставленную мебелью и всякими безделушками, светлое пятно окна с силуэтом пышных волос Колетт. Жижи мне играть не пришлось, играла ее Даниэль Делорм, но мимолетная встреча с писательницей, назвавшей меня именем своей героини — вечно жива в моей памяти.
Все так же сопровождая Вадима, я познакомилась с Кокто в Милли-ла-Форе. Очень смутно помню прекрасный особняк, в котором, куда ни ступи — одни раритеты и ценности. Но самым ценным были внимание и галантность Кокто по отношению ко мне.
Он принял меня как важную даму. Любезен, вовлекает в беседу, угощает соком, водой и без конца говорит комплименты. С Вадимом он говорил о разных высоких материях, а я во все глаза смотрела на этот новый чудный мир, на книги, на картины, на их хозяина, и хрупкого, и великого.
Никогда не забуду его!
Вадим занимал на пару с Кристьяном Марканом комнаты для прислуги в роскошной квартире на Кэ д’Орлеан на острове Сен-Луи. Эвлин Видаль, хозяйка, оказавшись на мели, сдавала комнаты для слуг своим бывшим любовникам, а собственную спальню — будущим.
И вот однажды, придя к Вадиму, я обнаружила, что квартиру лихорадит. Вадим хлопотал на кухне, стараясь приготовить завтрак по-американски — яйца всмятку, апельсиновый сок и пр. Хозяйская спальня была сдана Марлону Брандо. Теперь, в два часа дня, он еще спал. Мне безумно захотелось увидеть его живьем, и я вызвалась отнести ему поднос с завтраком. Стучу и вхожу в логово спящего зверя.
Воняет окурками, затхлостью, мужским потом. Тьма, как в колодце. Зажигаю свет и говорю, что принесла завтрак. Из-под одеяла высовывается опухшее, небритое лицо. И голос сонно, лениво: «Go away, son of a bitch!»[1] Кое-как поставила на постель поднос, и он опрокинулся, как только тот повернулся, чтобы спать дальше. Но я, уходя, замешкалась, и он схватил яйца, шмякнул их об стену и снова заснул в месиве апельсинового сока, молока, кофе, раздавленных желтков и собственной славы.
Больше я никогда его не видела, и в моей памяти он ничуть не похож на свой знаменитый образ. Как сказал не помню кто: «Нет кумиров для их лакеев».
Старый папин друг, Морис Вернан, стал в конце концов моим импресарио и предложил мне сниматься в фильме с Бурвилем «Нормандская дыра». Восторга у меня это не вызвало. Сладенькая история, действие происходит, как ясно из названия, в нормандской деревне, играть надо крестьяночку, довольно противную, Жавотту. Роль крошечная, разве что в титрах мелькнет имя. Не то что теперь — в титрах мы с Бурвилем на равных. Но предложили мне 200 000 старых франков (2000 новых), и это решило дело.
Буду богатой-богатой!
К черту экзамены, дипломы! Я стану кинозвездой!
Вадим пожал плечами и сказал, что напрасно я согласилась на этот фильм. Сказал из зависти: свой собственный снять не мог. Слушать я его не стала, а отправилась покорять мир или хотя бы Нормандию… Он обещал часто приезжать ко мне и с грустью смотрел, как я радуюсь.
Близились съемки, и радость улетучивалась. Меня снова стали одолевать страхи. Я одна-одинешенька среди профессионалов, а сама ничего не умею.
Если существует на земле ад, мой первый фильм тому пример.
Подъем ни свет ни заря в 6 утра, уродский грим — рыжеватая пудра и пурпурная помада, — моя беспомощность, тычки, брань грубых ассистентов, негодяи-продюсеры, отвратительные гримеры. И сама я немногим лучше — даровитые актеры смотрят с иронией: забываю слова, двигаюсь неуклюже, смешно. Совсем сбита с толку, пропадаю и схожу с ума от стыда и отчаяния.
Не успевала я проснуться — меня сдавали гримерше, толстой, вульгарной, безобразной тетке, которая творила, что хотела, с моим лицом. Мучить меня доставляло ей особое наслаждение. Она покрывала меня жидкой, цвета темной охры пудрой, вонявшей тухлятиной, и казалось, что я в маске. А поверх охряной пудры сыпала рисовую, и лицо становилось как в гипсе. Подкрашу ресницы — глаза сразу маленькие, круглые черные бусинки, как у плюшевого медведя. А рот, Господи, рот! Этой толстухе, абсолютно безгубой, мой рот не давал покоя. Ликвидировать его! Не рот, а черт знает что! Она совала мне в лицо зеркало, я смотрела и плакала! Ну зачем вся эта штукатурка, ведь я похожа на мумию, мерзкая мумия!