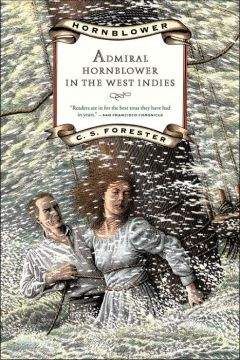«В чем заключается сущность вопроса? – говорил он по этому поводу в своей записке. – Мы озабочены распространением образования в народе, который на собственном языке не имел ровно ничего, что могло бы сообщить ему полезные знания. Нужно, следовательно, обучить его какому-либо из иностранных языков, – но какому же именно отдадим мы предпочтение?» Маколей решал этот вопрос безусловно в пользу английского, потому что на этом языке имеется целая сокровищница знаний. «Неужели вместо этого, – продолжал он, – мы станем заботиться об изучении в школах таких наречий, на которых не существует ни одной книги, способной выдержать сравнение с нашими; неужели вместо европейской науки мы будем содействовать распространению самых нелепых сведений, будем покровительствовать такой медицине, которой устыдился бы любой английский коновал, такой астрономии, над которой посмеется каждая маленькая девочка в нашей приходской школе, такой истории, которая рассказывает о царях в тридцать футов ростом и о царствованиях, продолжавшихся по три тысячи лет сряду?» Вопрос решался, по мнению Маколея, примером Англии. Она только тогда приобщилась к европейской цивилизации, когда отказалась от довольствования домашним кладезем мудрости, а между тем этот кладезь был не хуже индийского. Маколей ссылался еще на другой пример. «Другой пример, – говорил он, – еще ближе к нам. В прошлом столетии нация, находившаяся в состоянии такого же варварства, в каком пребывали наши предки до крестовых походов, постепенно освободилась от него и заняла место между цивилизованными государствами. Я говорю о России. В стране этой находится обширный класс общества, многие представители которого нисколько не уступают людям, составляющим украшение лучших кружков парижского и лондонского обществ. Есть полное основание думать, что эта могущественная империя вступит со временем в деятельное соперничество с Францией и Великобританией на пути прогресса. Какими же средствами был совершен этот переворот? Он совершился не потворством народным предрассудкам, не тем, что молодых людей приучали верить бабьим сказкам, которым верили их отцы, не тем, что заставляли их ломать голову над вопросом, когда именно —13 сентября или в другой день – создан был мир, но распространяя между ними знание чужеземных языков и этим самым давая им возможность обогатить свой ум истинно научными сведениями. Языки Западной Европы цивилизовали Россию, и я полагаю, что ту же услугу они могут оказать Индии…»
После Маколея в Индии господствовала двойная система образования: туземный язык в низших школах и английский – в средних и высших. Но во времена Маколея задачей правительства в этой сфере признавалось «распространение европейской науки и литературы между туземцами британской Индии», а лучшим средством – язык метрополии. В этом направлении, несомненно, были свои невыгоды для колонии, она как бы готовилась на вечное пленение англичанами, зато, с другой стороны, это давало ей важное оружие – науку, и уж от доброй воли первых обладателей этого оружия зависело поделиться им с массой на родном для нее языке и подготовить возвращение старины – политической самостоятельности, озаренной светом свободы и науки… Как англичанин, Маколей, понятно, симпатизировал всему английскому. Английское было для него синонимом прогресса, и он дарил Индии то, что считал за лучшее. Нужно было только создать ступени к этому лучшему, и первой из них было просвещение. Он никогда не забывал величественного образа римского священника, который, увидев на итальянском рынке рабов из Англии, решил просветить их светом Евангелия и знания и действительно исполнил это намерение, достигнув папского престола. «Мы не имеем, – говорил об этом Маколей в своей речи об освобождении негров, – определенных сведений о затруднениях, которые ему предстояло преодолеть. Но мы знаем, что во все времена дорога к добродетели и славе шла чрез ненависть и позор. Вероятно, нашлись достойные государственные деятели, высказывавшие мнение, что мысль о нравственном развитии виттенагематов Гептархии должна быть оставлена; без сомнения, нашлись рабовладельцы, утверждавшие, что их рабы питаются лучше, чем король Ломбардии; без сомнения, нашлось много остряков, осмеивавших экзальтацию папы, и клеветников, маравших его репутацию. Весьма возможно, что нашлись даже негодяи, разрушавшие построенные им капеллы, и клятвопреступные рыцари, поднимавшие на виселицу его миссионеров. Как бы там ни было, мы знаем, что он настоял на своем, и посмотрите на результат!..» Этим результатом была Англия XIX столетия, а потому «Fiat lux in tenebris!»[2] было лозунгом Маколея и в Индии.
Такие лозунги нередки в устах новичков-администраторов. Они далеко не всегда Маколей по уму и красноречию, если не принимать за голос истины почтительных адресов при их приезде и отъезде, однако самый элементарный запас благоразумия всегда вовремя внушает им необходимость показать обществу перспективы, конечно не по рецепту Ровоама: «Отец мой бил вас бичами, а я буду вас бить скорпионами…» Вступая в должность, они всегда заготовляют целый фейерверк гуманных фраз, очень часто даже с легкой примесью радикализма, хотя теперь уже редко кто обманывается подобными увертюрами. В словах Маколея не было ничего подобного. За его словами сейчас же последовало дело – было учреждено несколько высших и средних школ для индийской молодежи. Богатых горожан привлекали к участию в пожертвованиях. Бюджет народного просвещения достиг небывалых размеров. Одним словом, под небом Индии Маколей ни на йоту не изменил своим убеждениям, в данном случае взглядам на просвещение. Он всегда был горячим сторонником образования. «Правительство, – говорил он, – обязано защищать нас и нашу собственность от всякой опасности. Главная опасность для нас и нашей собственности лежит в невежестве народа. Следовательно, правительство обязано стараться, чтобы народ не был невежествен». Он сказал это в Англии, говорил на берегах Ганга, повторил бы в России и где хотите.
Как ни высоко ставил Маколей классическую литературу, он и в Англии, как и в Индии, стоял за изучение английского языка по преимуществу, потому что, по его мнению, знавший отлично греческий и латинский имел гораздо меньше преимуществ, чем знавший один английский язык. «Великий человек средних веков, – говорил Маколей, – не мог вообразить ничего подобного „Макбету“, „Лиру“ или „Генриху IV“. Лучшая известная ему эпическая поэма была гораздо слабее „Потерянного рая“, и все тома его философов не стоили одной страницы „Novum Organum“ Бэкона». В подобной точке зрения видели доказательство слабости Маколея как философа. Ему, как говорили, недоставало философского образования. Если это его вина, то в такой же мере, как неверие протестанта в непогрешимость папы. Знай или не знай Маколей философов древности, он все равно остался бы при своем мнении, потому что по складу своего ума был утилитаристом. Он требовал от науки или литературы, как и от политики, служения жизни. Для него было хорошо и разумно только то, что улучшает жизнь, увеличивает сумму полезных знаний, человеческой свободы и счастия. Он симпатизировал философии только в духе Бэкона, и вообще философия, по его мнению, началась только с Бэкона. Древние мыслители обнаружили и затратили массу ума – Маколей соглашался с этим, но объект их мышления казался ему бесполезным, и, подобно Данте, сожалевшему, что великие люди древности томятся в аду, он сожалел о направлении их мысли. «Так вот из-за чего они не обедали!» – говорил Маколей словами одной римской комедии, подразумевая труды философов древности. С этим взглядом тесно связаны воззрения и симпатии его как общественного и государственного деятеля: любовь к свободе как лучшей гарантии человеческого счастия, любовь к просвещению – потому же, и предпочтение английского языка всякому другому, не исключая языка греков и римлян, потому что это знание – ближайшая дорога к сокровищнице полезных знаний, и следовательно, к свободе и счастью… В этом духе были заботы Маколея о просвещении индусов.