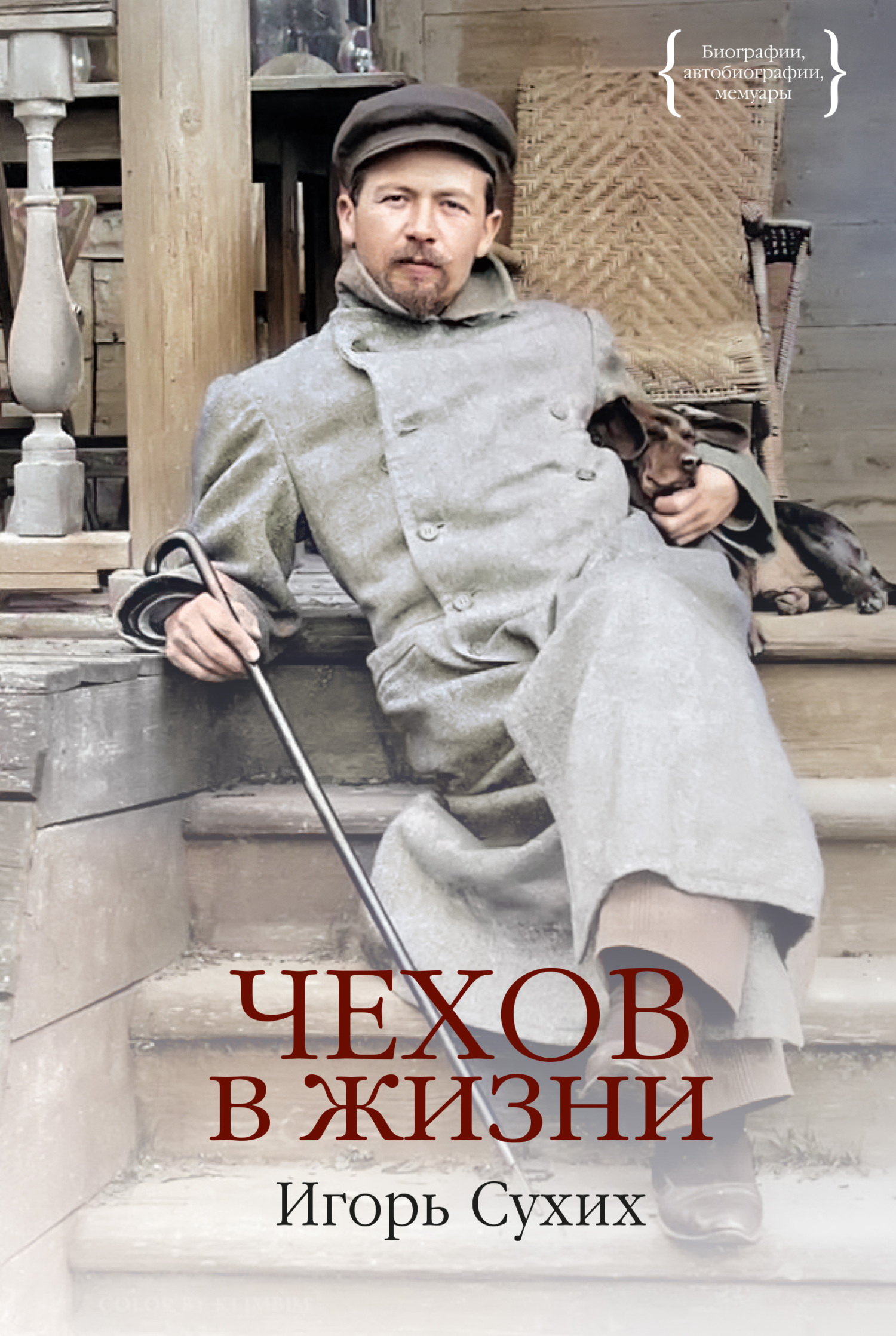город столь же непарадный, простой, естественный и замечательный, как был сам.
Встретить его на вокзал собрались средние русские люди, студенты и барышни, молодые дамы с заплаканными глазами, без генералов и полицмейстеров, без промышленников и банкиров. Были интеллигенты, и старшие, но только те, кто просто, сердцем любили его.
Помню и сейчас чувство, с каким поддерживал гроб, когда выносили мы его с Николаевского вокзала на площадь. Некоторое время несли на руках, потом поставили на катафалк. Толпа все-таки собралась порядочная. Когда шли по узенькой Домниковской улице, из подвального этажа высунулся в окошко портной с замученным лицом, спросил: «Генерала хоронят?» – «Не, писателя». – «Пи-са-те-ля!»
Путь был далекий, через всю Москву, в Новодевичий монастырь, к Павлу Егоровичу.
Этот день так и остался неким странствием, долгим, прощальным, но и светлым, как бы очищающим – само горе просветляло.
У Художественного театра служили литию. Были литии и в других местах. Все шло медленно, но выходило и торжественно. Солнце сияло, набежали потом тучки, брызнул дождь, несильный, скоро прошел. В Новодевичьем зелень блестела, перезванивали колокола.
Уходящая туча, капли с дерев, отдельные капли с неба, кусок радуги, пересекавший павлиньим узором тучу, золото куполов, блеск крестов, ласточки, прорезавшие воздух, могила, толпа – это и был уход от нас Чехова, упокоение его в том Новодевичьем, куда он уходил из клиники, выздоравливая, стоял скромно в храме, слушая службу и пение монашенок.
Б. К. Зайцев. Чехов
Одна из таких барышень с заплаканными глазами, девятнадцатилетняя Маня Смирнова, двоюродная племянница К. С. Станиславского, написала подробное письмо дяде.
Рано утром я поехала на вокзал… <…> На станции уже было очень много народу, но гораздо меньше, чем у Художественного и на кладбище. Когда гроб пронесли мимо меня, у меня сердце больно, больно защемило, и слезы так и потекли! А на Ольгу Леонардовну невозможно было смотреть без слез, они у меня навертываются сейчас при одном воспоминании! Вся ее фигура в большой черной креповой шляпе с длинной вуалью, с скорбным исхудалым лицом, залитым слезами, выражала такую глубоко раздирающую печаль, что становилось страшно за нее, и собственное горе бледнело перед этой скорбью. Она шла, опираясь на Владимира Ивановича Немировича и Гольцева, сзади ее поддерживала Элла Ивановна, жена Владимира Леонардовича <Книппера>. Больше никого не было из близких Антона Павловича ни на станции, ни у Художественного театра, мать, братья и Мария Павловна, которые совершенно занемели в своем горе, и тетка Ольги Леонардовны приехали уже в монастырь, а может быть, к «Русской мысли», я там не была.
Тяжело страшно было у Художественного! Для меня, которая так любит его, тяжелей всего! Я невольно вспомнила чествование 17-го января! Как перед этим днем перед милым театром стояла огромная, бушующая, веселая, нетерпеливая толпа, чтобы добиться билетов; я с утра радостно волновалась в этот день и вечером, во время чествования, мне было грустно до слез, и ужасное предчувствие меня мучило, какой-то внутренний голос шептал: «Это в последний раз, в последний раз чествуют Чехова, в первый и последний». И теперь… – перед крыльцом вместо экипажей с разряженной публикой стоит черная подставка, ждут священник и дьякон, огромная толпа, грустная, молчаливая, торжественная наполняет оба тротуара на протяжении 6-ти, 7-ми домов, а пустая середина улицы ждет вторую толпу, которая двигается медленно с прахом Чехова. Мы были у окна в фойе театра. В театре были Лужский, тетя Маруся <М. П. Лилина, жена Станиславского>, тетя Нюша <А. С. Алексеева, сестра Станиславского>, М. П. Григорьева, Качалов с женой, Званцев военным, Захаров, Павлова, несколько учениц (Красовская), Шаляпин, Горький, Ф. Гольст, Желябужский. Все грустные, расстроенные. Качалов и Шаляпин особенно, – и оба очень бледные. Горький очень взволнованный. Все какие-то растерянные.
Вот послышалось вдали пение, толпа хлынула и залила всю улицу, гроб опустили перед дверью Художественного, перед дверью Чеховского театра, которому он дал жизнь и славу и который дал жизнь его пьесам! У меня сердце разрывалось. Я вспомнила Ольгу Леонардовну, какой я ее видела в последний раз в стенах этого театра, – очаровательную парижанку в рыжем парике, в чудном голубом капоте у окна, открытого в Вишневый сад… и теперь! Это было ужасно, ужасно… Несчастная не могла стоять на ногах во время литии, опустилась на колени. Когда лития кончилась, воздух дрогнул от тысячи голосов, поющих «вечную память», – было жутко и торжественно!
Про монастырь не буду тебе рассказывать… мне слишком тяжело, и слезы давят горло!
М. И. Смирнова – К. С. Станиславскому. 9 июля 1904 г. Москва
Вспоминается мне панихида на кладбище на другой день после его похорон. Был тихий июльский вечер, и старые липы над могилами, золотые от солнца, стояли не шевелясь. Тихой, покорной грустью, глубокими вздохами звучало пение нежных женских голосов. И было тогда у многих в душе какое-то растерянное, тяжелое недоумение.
Расходились с кладбища медленно, в молчании. Я подошел к матери Чехова и без слов поцеловал ее руку. И она сказала усталым, слабым голосом:
– Вот горе-то у нас какое… Нет Антоши…
О, эта потрясающая глубина простых, обыкновенных, истинно чеховских слов! Вся громадная бездна утраты, вся невозвратимость совершившегося события открылась за ними.
А. И. Куприн. Памяти Чехова
<Чехов:> Смерть – жестокость, отвратительная казнь. Если после смерти уничтожается индивидуальность, то жизни нет. Я не могу утешаться тем, что сольюсь с козявками и мухами в мировой жизни, которая имеет цель. Я даже этой цели не знаю. Смерть возбуждает нечто большее, чем ужас. Но когда живешь, об ней мало думаешь. Я, по крайней мере. А когда буду умирать, увижу, что это такое. Страшно стать ничем. Отнесут тебя на кладбище, возвратятся домой и станут чай пить и говорить лицемерные речи. Очень противно об этом думать.
А. С. Суворин. Дневник. 23 июля 1897 г.
Раз, приехав с чьих-то похорон вместе с Чеховым, или с кладбища, куда мы с ним часто ездили, я пил с ним чай у себя дома. Мы сидели вдвоем. Я сказал:
– Вот и меня похоронят и так же придут домой и станут пить чай и говорить о всяком вздоре.
Он засмеялся: «Конечно, будет так».
А. С. Суворин. Дневник. 27 сентября 1900 г.
Глядя в окно на покойника, которого несут: – Ты умер, тебя на кладбище несут, а я завтракать пойду.
Чехов. Записная книжка
Кладбище обозначалось вдали темной полосой, как лес или большой сад. Показалась ограда из белого камня, ворота… При лунном свете на воротах можно было прочесть: «Грядет час в онь же…» Старцев вошел