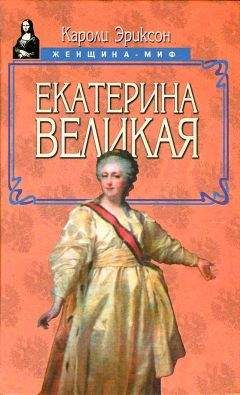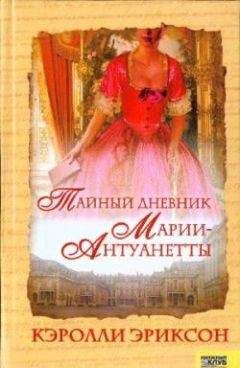С каждым годом усиливалась ее неприязнь к якобинцам, парижским радикалам, которые стояли у руля всех политических перемен во Франции. Проповедуя равенство, якобинцы поощряли разнузданный кровавый террор, и под нож гильотины попали тысячи и тысячи безвинных людей. Якобинцы казнили Людовика XVI и его жену, а их единственного сына держали в сырой темнице. Они, как полагала Екатерина, жаждали изменить мир, избавить его от всех монархов и аристократов. На ее взгляд, они были подобны бешеным псам, которых следовало пристрелить, отравить — словом, уничтожить.
Прервав свои занятия, Екатерина встала из-за стола и подошла к окну. На минуту открыв его, она бросила хлебные крошки воронам, которые, нахохлившись, сидели на обледеневшем оконном выступе. Холод пахнул в лицо, мороз обжег руки, и она поспешно закрыла раму. Потом, вздохнув, позвала камергера Зотова, позвонив в стоявший на ее письменном столе колокольчик.
Потом несколько часов она провела в беседах с секретарями и полицмейстером, который представил ей последние данные о русских якобинцах в Москве и Петербурге, о подозреваемых в убийстве лицах и других преступниках. Она так страстно желала пресечь появление в России радикальных французских идей, что запретила даже продажу революционных календарей (в них вместо традиционных названий месяцев использовались поэтические, натуралистические образы) и красных шапок, которые носили якобинцы.
Последним в ее покои прошел граф Зубов. Камергер низко поклонился ему, и все остальные присутствующие тоже засвидетельствовали ему свое почтение. На нем был шелковый камзол с фалдами расшитый крупными блестками, белые шелковые панталоны и зеленые сапоги. Его сопровождала любимая мартышка. Она то взбиралась к нему на плечо, то прыгала с кровати на стол, со стола на буфет.
Кроткий, исполненный благодарности молодой гвардеец Зубов совсем недавно стал важной фигурой в правительстве Екатерины, получив чин генерал-лейтенанта, собственную канцелярию с полным штатом клерков и чиновников. Многого сумел добиться Зубов с тех пор, как занял место Мамонова. Он получил большую часть полномочий, которыми располагал когда-то Потемкин, а также покои светлейшего князя во дворце. При дворе к Зубову за его «необычное высокомерие» и влияние на императрицу относились холодно.
Приближенные императрицы ненавидели Потемкина, но были вынуждены считаться с его несравненным умом. Отношение к Зубову было не менее презрительное, только последний не обладал ни единым достоинством первого. Это был тугодум, недалекий и грубый. Императрица, слепо увлекшаяся им, называла его умницей и нагружала обязанностями, которые были выше его способностей. («Я делаю большое дело для государства, обучая уму-разуму молодых людей», — сказала как-то императрица одному из своих сановников, и он это ее замечание с понимающим смешком сделал достоянием придворных.)
Зубов был старательным, хотя и медлительным служакой. По словам одного из современников, который относился к нему не предвзято, Зубов «до посинения корпел над бумагами, не обладая ни живостью ума, ни сообразительностью, без чего невозможно было справиться с таким тяжким бременем». Он был подмастерьем, которого хозяин перегрузил работой. Слишком часто не дотягивал он до высоких требований, предъявляемых ему императрицей. Все же в его руках сосредоточилась достаточная власть, чтобы другие трепетали перед ним, и он умело пользовался ею, защищаясь от нападок.
В полдень в опочивальню к Екатерине пришел парикмахер. Он расчесал седые поредевшие волосы императрицы и уложил их простым узлом на затылке, оставив возле ушей мелкие локоны. А четыре горничные возрастом старше императрицы готовили ее туалет. Одна подала чашку с водой для полоскания рта. Зубов у нее уже не было, и линия губ стала вялой, а подбородок безвольным. Это несколько портило ее наружность. Но белизна волос, довольно гладкое лицо и розовый цвет кожи придавали ее облику приятный вид.
Горничные принесли ее повседневное платье, с ослепительно белой нижней юбкой, темным передником и рукавами в широкую складку.
Передники она предпочитала темно-серого или розовато-лилового цвета и носила их каждый день, сделав своей униформой. Она считала, что носить один и тот же костюм каждый день целесообразно, — весь ее утренний туалет занимал около десяти минут, — а Екатерина всегда была горячей сторонницей целесообразности. Ее время, как она однажды сказала Завадовскому, принадлежало «не ей самой, а империи». Она не имела права разбрасываться часами, расходуя их на собственную внешность, поскольку на первом месте стояли нужды подданных.
После легкого завтрака, который не раздражал чувствительный желудок, императрица выезжала в экипаже. Всех, кого встречала по дороге, Екатерина приветствовала кивком головы и дружелюбным пожеланием доброго дня. Когда люди благословляли ее, она добросердечно улыбалась. Если погода стояла плохая, после обеда она оставалась дома и, надевая очки и беря в руки увеличительное стекло, занималась чтением или вышивкой. Иногда она слушала Зубова, который вслух читал ей иностранные газеты.
Она со смехом относилась к довольно частым сообщениям в иностранной прессе о ее «тайной распутной жизни». Враждебно настроенные заморские репортеры представляли Екатерину в образе дьяволицы, жадной до мужчин, плотски неудовлетворенной, алчущей все более сильных впечатлений и новых экзотических ощущений. В изобилии печатались непристойные рассказы о ее любовных похождениях. Писали, что потребности ее были настолько велики, что ни один мужчина не мог удовлетворить их. Только жеребец мог насытить ее. Когда-то Вольтер дал ей имя «Семирамида Севера». Теперь в охваченном революционным пылом Париже ее называли «Мессалина Севера», в память о распущенной жене римского императора Клавдия.
Раньше Екатерину серьезно волновало то, что думают о ней британские и французские журналисты. Она снискала себе репутацию добродетельного и просвещенного монарха, воплощавшего в себе разум, терпимость и добропорядочность. Теперь, когда Франция находилась в руках жалких цареубийц и вся Европа бурлила, она уже оставила надежды заслужить славное имя. Ей претило, когда ее подданные говорили о ней «Екатерина Великая» (этот почетный титул перекликался с именем Петра, ее кумира), хотя однажды она всерьез предложила Вольтеру написать книгу под названием «Век Екатерины II». Все же чем старше она становилась, тем чаще ее имя сочеталось с эпитетом «Великая».
Это обстоятельство беспокоило ее. Громкое имя с его торжественным, героическим смыслом ко многому обязывало. Она никогда не стремилась к собственному прославлению. Всякая театральность и доморощенное величие вызывали у нее смех. Когда петербургская знать попыталась присвоить императрице титул «Великая, наимудрейшая матушка-государыня», она приказала им не делать этого. «Это окончательное мое решение», — заключила она твердо. Гримму она как-то обмолвилась, имея в виду себя: «Не всем лесть по душе».