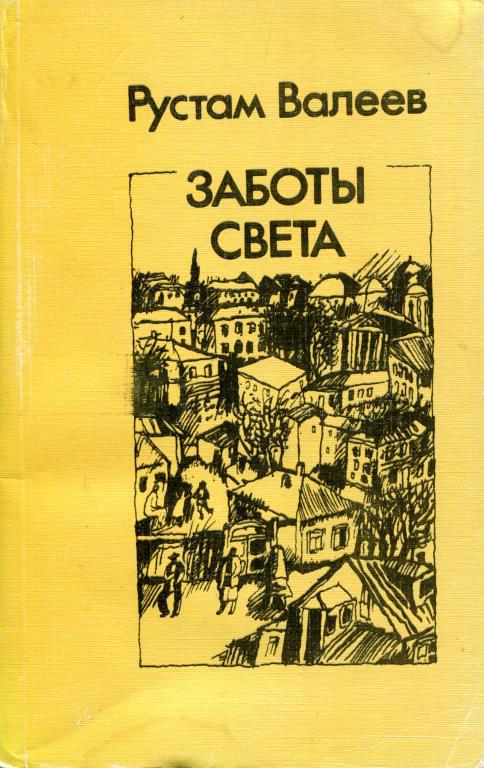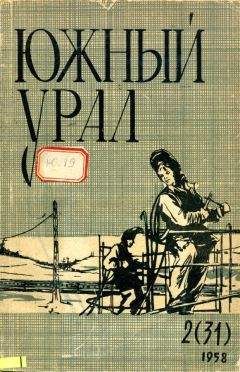нас грудную-то болезнь лечут: салом барсучьим. Так легчит, так легчит! — Поговорив этак, он встал и, порывшись в сундуке, достал рисованную маслом картинку: Александр Второй, зачитывающий перед крестьянами манифест.
— Вот погляди, нашего рисовальщика работа, сын писаря балуется. Да так похоже — вылитый государь.
— Добрый был царь, — сказал Габдулла, чтобы молвить приятное старику. И не ошибся: Парфен вдохновился новой задачей для говорения.
— Как до указа крестьянин жил… хуже нельзя! Теперь крестьянин, покуда свой хлеб не уберет, к помещику не побежит, хотя бы и по шесть гривен в день посулят. Уж тот, бедный, кланяется, кланяется… мужику-то! — смеялся Парфен. — Однако и с ним надо по справедливости, он тоже понимает, когда у мужика беда: и семенами поможет, и денег даст на сбрую, на лошадку.
Наговорившись, старик убрал в сундук малеванного царя с крестьянами, повздыхал о чем-то и стал затапливать печь. А вскоре вернулся дядюшка со своими приятелями; завалили угол покупками, шумно затолпились около вешалки, снимая полушубки и стеганые пальто, по двое враз умывались из бренчащего умывальника и по двое, по трое утирались длинным, быстро намокающим полотенцем. Сели пить чай. Тут между ними произошел горячий разговор: одни предлагали остаться до завтра, другие хотели ехать немедленно, в особенности дядюшка. Охолонув после чаепития, он стал поторапливать Габдуллу: давай, братишка, давай, к вечеру надо поспеть домой! Стали выносить покупки, укладывать в сани; спешно, спешно запрягал он лошадь, накоротке переговариваясь с приятелями и уже прощаясь до следующего раза.
Парфен, простоволосый, в шубенке, наброшенной на худые верткие плечи, растворив ворота, стоял сбоку, крича озорно и громко:
— Ноныче хозяйка пряников дождется, ага! Доброго пути, купцы хорошие, дороги вам ровной!..
— Айда, знаком, сам бывай, — отвечал дядюшка на том странном, исковерканном наречии, которым пользовались в разговоре между собой татарин и русский.
Площадь, вчера еще торжественная и шумная, нарядно-пестрая, нынче выглядела скверно, пусто — вся истоптанная, пахнущая конюшней; по ней, делая голодные зигзаги, бегали бродячие псы, и маленькие оборвыши, рыская возле лабазов и что-то подбирая с земли, злыми воплями отгоняли их прочь. А за деревней, по обеим сторонам колеистого, наезженного проселка, широко и чисто сверкала снежная пространная ровность, по которой словно катилось что-то огромно-легкое, играющее к радости. Вскидывая под самую дугу мохнатую голову и весело всхрапывая, бежал к дому отдохнувший коняга.
Дядюшка вел себя с неестественным оживлением, спел даже озорное про то, как парни умеют пить и гулять, потом замолк, нахохлившись, и только вздыхал громко: терзался, как видно, похмельным угрызением совести. А там, приубожившись, застонал совсем уж печальное: о том, что и у него устал, и сам он притомился в долгом пути, и с тоской смотрит на месяц, а месяц тож коняжка е, как и он, одинок.
— Язви эту жизнь! — воскликнул он в сердцах. — Я говорю, какая унылая, темная наша жизнь… хоть бросай все и беги куда-нибудь на прииск. Вот были бы моложе, а?
Габдулла не отозвался, притворившись спящим. О многом говорено, о многом передумано, и планы были всякие… поселиться в деревне, учительствовать, обзавестись семьей — да, видно, ничему такому уже не бывать. Вот и здоровье как будто пошло на поправку, опять хочется жизни, ее шума и суеты, и опять вопрос: зачем бы ему отказываться от счастья, столь обыкновенного для многих людей?
Но можно ли среди этого безверия, уныния и хаоса надеяться на какое-то личное, отдельное счастье для себя? И разве можно личным счастьем восполнить потери, которые пришлись на его долю, на долю его товарищей, на долю мужика и рабочего?
Вот придет он в город, раскроет журнал, один из многих, и прочтет высокопарные стенания о национальных чаяниях. Об идеалах! К черту ваши идеалы, господа! Ваш идеал — приумножение капитала, а душа ваша слепа, темна, ей не разглядеть истины, ибо закрыта она золотом. Ваш дух слаб, ему едва хватает сил носить ваши ожиревшие тела.
А вы, разночинный удалой народ, друзья мои, уставшие на полпути? Вы несли книги голодному крестьянину и верили, что он станет счастливым. Как много назиданий было в тех книгах… Вы обиделись, когда я написал: «Душу, силу, плоть народа голода терзает змей. Книга — прочь! Народ терпенью, ты теперь учить не смей!» Я и теперь повторю: не кормите народ назиданиями, накормите хлебом.
Святые отцы, а какие у вас идеалы? Благочестивая покорность на земле, рай на небесах и кара на Страшном суде. Вы говорите: необходима вера. Что ж, бедняк верит в бога, но он не верит, что завтра не умрет с голоду. Я знаю, вы грозите карой, но я не боюсь: мое бесстрашье куплено дорогой ценой. Когда-то я думал, что вернусь в ваше сословие, буду учить людей жить по божественным законам… теперь уж нет! Я всегда был беден, всегда работал, и я немного знаю, как живется простым людям, о чем они поют, о чем льют слезы.
Мой идеал — быть правдивым в моих трудах, писать жизнь, какая она есть. И эта правда в какой-нибудь далекий день, может быть, станет поддержкой для новых поколений, чей дух поднимется над низостью, над эгоизмом людей и мелкими, их заботами. О, это будет прекрасное поколение, созревшее для делания добра!..
Глаза его как будто покрывала легкая дремота, но чувства были остры и зорки, и ясной была голова. Откинув ресницы, он поглядел на вечереющее небо и увидел облака, целый караван, заостренный с одного края четким очерком нетерпеливого, рвущегося вперед облака, похожего на сильную, напористую птицу. Он опять прикрыл глаза, но видение долго еще представлялось в уме, пока не стало монотонным и не исчезло совсем. Очнувшись в другой раз, он увидел: наступила ночь, полная луна светила над снежным полем. Вега — Зухра, — единственная в своей яркой силе, озирала поднебесную.
…А жила когда-то на земле красивая и добрая девушка. Осиротев, много обид стала терпеть от злой мачехи и ее дурной дочери. Однажды в лунную ночь повелела мачеха наполнить водой бездонную бочку, и долго плакала Зухра возле ручья, прося луну поднять ее к себе и избавить от земных мук. Мольбу девушки услыхала звезда, что неподалеку от луны жила, она и подняла сироту. С той поры и сама луна, прежде радостная, стала печальной. Но ярче, светлей стала звезда, пособившая девушке, и люди назвали ее Зухрой.
И сколько же лет с тех пор смотрит она неусыпным оком на все, что ни происходит на земле, и терпеливо ждет срока, когда на землю явится справедливость для всех — для сирот и бедных, для обиженных и одиноких. Сколько