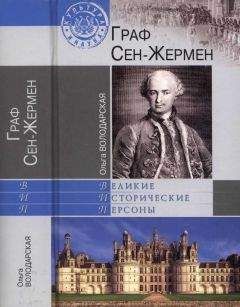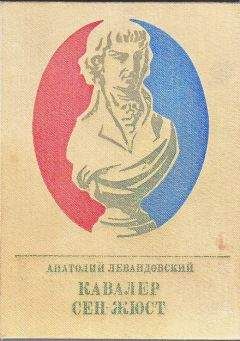— Значит, — возразил Билло, — ты хочешь отправить на гильотину весь Национальный Конвент.
Эти слова привели Робеспьера в ярость, и его высокий голос стал еще более пронзительным.
— Вы все здесь свидетели, — крикнул он, — что я не говорил, будто бы хочу гильотинировать Национальный Конвент!
Смущенные члены Комитета промолчали. Барер ехидно улыбнулся.
— Теперь я тебя знаю… — продолжал Робеспьер, (пристально глядя на Билло.
— Я тоже, — прервал его Билло, — я тоже знаю теперь, что ты… контрреволюционер!
Неподкупный был настолько поражен и взволнован, что не выдержал. Лицо его стало конвульсивно вздрагивать, он впился пальцами в сукно обивки стола и зарыдал.
В это время в комнату вбежал один из служащих Комитета.
— Граждане, — крикнул он, — вы настолько забылись, что сделали тайну своих совещаний достоянием толпы! Взгляните!
Барер посмотрел в раскрытое окно и не без удовольствия убедился, что большая толпа людей собралась на террасе Тюильри и внимательно прислушивается к тому, что происходит. Окна тотчас же захлопнули, но все уже было сказано. Неподкупный плакал. Остальные, пораженные подобным оборотом дела, молча смотрели друг на друга. Плотина была прорвана. Робеспьер понял, что его и его группу в Комитете окружают враги.
Итак, не только партия в Конвенте, не только большая часть членов Комитета общественной безопасности были его врагами. Он не верил в полное единство своего Комитета, но никогда не подозревал до сих пор, что может произойти такое. Оказывается, и здесь почва заколебалась. На что же решиться? Отступить? Нет, отступление при таких обстоятельствах равносильно гибели. И, видя это, Робеспьер бросается с яростью вперед. Его ближайший соратник Кутон — Сен-Жюста в то время не было в Париже — поддерживает его.
24 прериаля в Конвенте первым выступает опять Кутон. Он клеймит позором вероломных и трусливых клеветников, которые в их отсутствие пытались опорочить и сорвать уже принятый декрет. Его речь вызывает аплодисменты. Перетрусивший Бурдон начинает оправдываться и лепечет в смущении, что он уважает Куток а, уважает Комитет, уважает непоколебимую Гору, которая спасла свободу. Но его властно обрывает Робеспьер, заявляющий под аплодисменты депутатов, что Комитет нельзя отделять от Горы, что Конвент, Гора, Комитет — это одно и то же.
— Было бы оскорблением отечеству, — прибавил Робеспьер, — допускать, чтобы несколько интриганов, более других презренные потому, что они более их лицемерны, старались увлечь часть Горы и сделаться главарями партии.
Бурдон, в свою очередь, перебивает Робеспьера.
— Я требую, — кричит он, — чтобы было доказано то, что здесь говорят! Сейчас было довольно ясно сказано, что я злодей.
Ответ Неподкупного был краток и ужасен:
— Я не назвал имени Бурдона. Горе тому, кто сам называет себя!
Бурдон хотел возразить, но волнение его было столь велико, что он захлебнулся в собственных словах и упал на скамейку. Его сковал такой ужас, что друзья думали, не лишился ли он рассудка. Во всяком случае, после этого инцидента он месяц пролежал в постели, и врачи опасались за его жизнь. Не лучшим казалось и положение его единомышленников. Мерлен благоразумно набрал в рот воды, а Тальен, которому также досталось от Робеспьера, поспешил написать последнему слезливое письмо, в котором в льстивых и заискивающих выражениях просил пощады.
Как будто бы в Конвенте решимостью Робеспьера и Кутона была одержана полная победа. Вопрос о снятии нового декрета сам оказался снятым. Неподкупному аплодировали все: и друзья, и враги, и трусливое, безгласное «болото». Однако не было ли все это еще одной иллюзией?
Законопроект, выставленный 22 прериаля, стал законом. Неподкупный торжествовал. Но понимал ли он в полной мере то, что творил? Безжалостно преследуемый врагами, чувствующий, что под ним колышется почва, но уверенный в своей правоте, он, сам не сознавая того, постепенно начинал отождествлять себя с делом, которому служил и во имя которого боролся. Но с тех пор как Робеспьер отождествил себя с революцией, террор должен был мало-помалу сделаться для него исключительно средством самозащиты, самосохранения. Закон 22 прериаля, по существу, и был в первую очередь актом подобной самозащиты. Само собой разумеется, что такая постановка вопроса была чревата последствиями, крайне далекими от того, о чем мечтал Неподкупный когда-то. Но, кроме того, все страшно осложнялось еще и следующими обстоятельствами.
Прериальский закон мог бы, конечно, на какое-то время сделаться сокрушительной силой в руках робеспьеровского правительства, если бы это правительство было единым. Но вся беда заключалась в том, что к моменту принятия закона единства уже не существовало. Мало того, при сложившейся ситуации большинство в правительственных Комитетах оказалось не на стороне Робеспьера. В его руках еще оставалась могучая сила: он был кумиром Якобинского клуба, перед ним трепетал Конвент. Но вся трагедия его положения состояла в том, что он терял власть в единственной инстанции, посредством которой рассчитывал пустить в действие свой страшный закон: в Комитете общественного спасения. Прежде нежели в пылу борьбы он понял это, шаг был уже сделан. И что же он мог теперь предпринять? Получалось так, что, выковывая для себя грозное оружие, он незаметно сам попадал в собственную ловушку и вскоре увидел это оружие обращенным против себя. В этом враги его разобрались быстрее, чем он. Выходя из зала заседаний, член Комитета Робер Ленде сказал коварному Бадье:
— Неподкупный в наших руках. Он сам роет себе могилу.
Это была правда. Всегда такой предусмотрительный, осторожный и мудрый, Робеспьер вдруг сорвался, сорвался не по своей, впрочем, вине, а в силу порядка вещей, изменить который он был не властен. Обстоятельства захлестывали его.
Он шел долгой дорогой. Сначала она была прямой как стрела, потом стала петлять, а теперь ее контуры все более и более исчезали в зарослях бурьяна. Это была дорога никуда. И он не мог не чувствовать этого.
Что же произошло, однако? Почему все так быстро переменилось? Еще вчера самый авторитетный член правительства, общепризнанный вождь якобинской диктатуры, сегодня Неподкупный вдруг оказался третируемым самозванцем, ненавистным тираном, чуть ли не контрреволюционером? Откуда взялся этот легион врагов? Почему Комитеты, даже Комитет общественного спасения, его «министерство», вдруг отступились от него? Внезапность была кажущейся. Робеспьер знал далеко не все, кое о чем он только догадывался, многое ему было неизвестно. К тому времени, когда он все понял, ничего изменить уже было нельзя. Концы рокового клубка терялись в прошедшем и будущем. Прошлое безвозвратно ушло, над грядущим он не был властен, хотя и предвидел его.