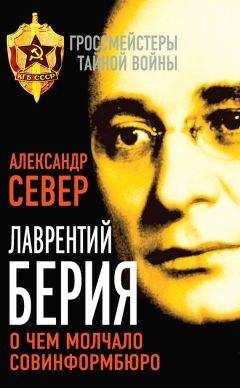Ознакомительная версия.
Козин возвращался.
Потрепанный студийный «газик» трясся по шершавой бетонке, валил сухой снег, сыпался на переднее стекло, «дворник» скрипел и метался изо всех сил, а снег все летел и летел. Я всматривался в квадрат очищенного стекла и на несколько секунд мог различить серую гладь бетонки с пляшущей метелью. КамАЗы, несущиеся навстречу, казались привидениями, бесцветное солнце то и дело выпрыгивало из-за сопок, поросших чахлым, тонконогим ельником.
Еще час назад самолет кружил над Магаданом, потом — трап, стужа негостеприимно саданула в лицо, сразу же после теплого салона ИЛа спуск по трапу и дорога до аэровокзала длиной в сто метров показались не столь уж студеными, но в зале ожидания было промозгло, — и вот полутеплая машина, крытая брезентом, мчится по Колымскому тракту, за брезентом минус 35 градусов, до Магадана около часа езды, тихо начинаю мерзнуть — сквозь щели в машине рвется холод, но ничего не поделаешь, знал, куда еду и по какой дороге меня катит обветренный здешними буранами «газик».
Легенды, были и преданья…
В России нет земли святей,
Колымский тракт до Магадана
Весь выстилался из костей,
— приходят на память чьи-то стихи. Стынут ноги. Снег продолжает валить, как будто в небе висят за готовленные сугробы. И вдруг… Снегопад оборвался — резко, мгновенно, «тормознул» на полном ходу. Солнце выскочило из-за сопки уже не квадратное, а обычное, круглое. Впереди начали выплывать пятиэтажки. Магадан. А на другой день шла съемка в теплой обшарпанной квартирке с зачерненной от копоти кухней, с туалетом, в котором почему-то не было двери, с узенькой прихожей, заставленной некрашеными стеллажами с какой-то картотекой поликлинического вида. Одна комнатка, тоже уменьшенная стеллажами с книгами в потрепанных переплетах и с круглым столом, накрытым клеенкой с большой дырой (похоже, прожжена утюгом); старый магнитофон, заваленный катушками с пленкой, пианино, а на нем фотокарточки нескольких кошек с бантиками — а две живые, без бантиков, забились под аккуратно прибранную кровать, когда вносили съемочную аппаратуру.
Хозяином квартирки был Вадим Алексеевич Козин, человек с громким именем и громким прошлым. Он-то и снимался, сидя за столом в потертом пиджачке, который обвис на старческих плечах, под пиджачком была застиранная клетчатая рубашка. Снимался Козин для московской телепередачи — первой по его появлении после сорокалетнего отлучения.
Зачем я пишу обо всем, увиденном мною в богом проклятом Магадане (да простят меня его жители), городе на морозном и сыром океанском ветру, вдохни глубоко — легкие разорвет; зачем рассказываю о раздавленном человеке, когда-то элегантном, улыбчивом, заласканном девицами? Теперь он превратился в ядовитого, неряшливого старичка со все еще карими цыганскими глазами…
Пишу не только потому, что увидел такое, что не дано было увидеть многим, но и потому, что в далекую патефонную эпоху Козин был любимцем и Майечки Кристалинской, пластинки его она слушала в доме тети Лили, в котором было все, что музыкальной душе угодно, и эстраду здесь любили не меньше, чем оперу. И Майечку, тогда еще не мечтавшую о певческом будущем, поразил красавец голос Козина, ничего подобного на пластинках она не слышала. Да, были Лемешев, Козловский, Печковский, но это были оперные певцы, и не пели они песни так, как умел Козин. Хотелось и самой петь, а еще хотелось верить, что скоро, очень скоро — ведь ей уже пятнадцать — придет и любовь, о ней она тоже мечтала — «Наш уголок нам никогда не тесен, когда ты в нем, то в нем цветет весна…». Будет весна и в ее жизни, и в сердце, как и в гитаре, зазвенит каждая струна.
…Перерыв. Погас маленький, слепящий прямоугольник осветительного прибора на тонкой ножке штатива. Комната сразу погрузилась в полумрак. Две огромные кошки вылезли из-под кровати и уселись на стуле, пяля на меня четыре испуганных глаза.
— Спасибо… Меня, кажется, припекло. — Козин положил ладонь на макушку. — Даже одурел. Вот сижу и думаю, а куда делась моя бриллиантовая звездочка, — он дотронулся до лацкана пиджака, — а ее-то отобрали при аресте.
(Была у Козина такая звездочка, подарок какого то богатого негоцианта из Америки. Звездочка о пяти каратах, и во время концерта на нее специально наставляли осветительный «пистолет», чтобы бриллиант сверкал, переливаясь синим огнем.)
— Отдохните, Вадим Алексеевич, — ласково сказал я, опасаясь, что старик закапризничает и откажется от съемки, он уже это сделал накануне, когда увидел, что одна из его кошечек недомогает, но, к счастью, все обошлось. — Нам торопиться некуда. Самолет только завтра, — пошутил я.
Комната постепенно остывала. Козин уже пришел в себя, улыбнулся:
— Это вы меня до завтра мучить будете?
— Не будем, Вадим Алексеевич. Снимем еще один кусок. Поговорим о вашем взгляде на эстраду сегодня. Кто вам запомнился?
Козин помолчал и вдруг сказал — раздраженно — Я вам вот что скажу, молодой человек. Я вот телевизор давно смотрю, слава богу, работает он у меня исправно. И много кого видел. Но — не запомнил. Кобзона запомнил, он хорошо поет. А вот то что он мое «Забытое танго» взял, — напрасно. Это моя вещь. Вы послушайте, как я его пою. Вот так и надо петь. У меня на пластинке есть — американцы в пятьдесят шестом выпустили.
— И хорошо, — сказал я, — что Кобзон его поет. — Не мог не вступиться я за Иосифа Давыдовича, хотя бы потому, что он пел песню в моей передаче. — А то ведь «Забытое танго» стало и впрямь забытым. Кто еще на примете, Вадим Алексеевич?
Он снова замолчал, видимо собираясь с мыслями Он не уходил от разговора, но продолжил его вяло Козин почти не называл имен. Говорил только о Гуляеве, Зыкиной, Пугачевой — они нравились ему. И еще Лещенко — он был на гастролях в Магадане, снялся вместе с Козиным, старику это польстило. Кто еще нравился? — не унимался я. И вдруг Козин оживился.
— Кто еще… А вот еще есть такая певица черненькая… Майя…
— Кристалинская?
— Да, Кристалинская. Что-то редко вижу.
— Ее уже нет, Вадим Алексеевич.
Видимо, Козин не расслышал моих слов, уйдя в себя, раскапывая в своей памяти заносы времени. В восемьдесят четыре года такие раскопки делать непросто, память иной раз напоминает стену, о которую можно расшибить лоб.
— Майя вот… Так в мои годы никто не пел у нас. Голос у нее небольшой, большой-то зачем на эстраде? Если его Бог дал, умей не орать, а петь. У Майи всегда песня… теплая. И голос — теплый. Только скромница она большая, по глазам видно. Напористей надо. — И, подумав, вдруг не согласился с собой: — А может, ей и не надо…
Ознакомительная версия.