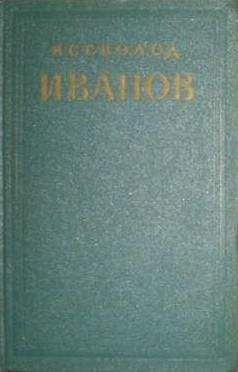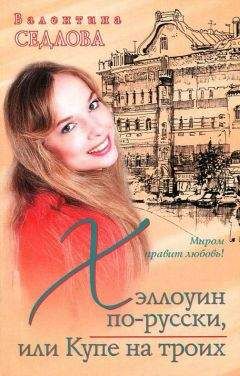Знакомый художник, волнуясь, не видя меня, прошел мимо. В руке его карандаш, блокнот, он рисует толпу, Горького и горячо, хоть и негромко, говорит кому-то рядом:
— Как вы смеете говорить о каких-то там правилах, которых не соблюдает в искусстве Горький! Искусство всегда предшествовало правилам и потому может изменять их по своему произволу. Простота и правдивость изложения — самое лучшее украшение искусства и первое и главное его правило. Будьте свободны и порывисты — и все правила потащатся за вами.
Рабочий переводит глаза на художника, кивает головой. Видно, что, очарованный жгучей, звенящей, как струна, думой о будущем, разящем зло, он понимает все, что происходит вокруг. И оттого он кажется дюжее, выше ростом и как-то темней лицом. И еще думаешь, что если ему предстоит сделать выбор между легким и тяжелым трудом ради общества, между спокойствием и ненавистью к врагу, между невежеством и знанием, между ничтожеством и значением твоим в мире, — он никогда не задумается в выборе и выберет второе, хоть и трудное, но необходимое человечеству. И надо оказать, что значительную часть этих чувств, этой благородной страсти к творчеству, пробудил в нем Максим Горький. Но надо помнить и то, что великую душу понимает только великая душа великого народа.
Вечером рассказываю Горькому о встрече: как я его видел от деревянного забора. Он любит обобщения, но когда эти обобщения желают применить к нему, да еще с лестной стороны, он переходит к частностям.
Он спрашивает:
— Забора я не разглядел. Голубой? Не разглядел. Что же, и на забор вскарабкались?
С удивлением вдруг вспоминаю, что на заборе зрителей не было.
— Не было.
Смеясь глазами, он говорит:
— Горький — Горьким, романтика — романтикой, а народ у нас практичный. Зачем ему лезть на забор, коли у того столбы подгнили? И зачем Горькому замечать такой забор, коли хлопочет он об издании журнала «Наши достижения»! Вглядись я в забор, придется хлопотать и о журнале «Наши недостатки».
Коробка сигарет докурена. Он ломает ее, складывает в широкую темную пепельницу, рвет и бросает туда еще какие-то бумажки — и поджигает этот крошечный костер. Любуясь безмолвными струйками огня, он говорит:
— Ну, а как вам понравились музыканты? Расплакались, и кто их знает, что они играли. Это мне непонятно. В России всегда такая великолепная музыка, такие оркестры… — Он рассказывает о русских оркестрах, крепостных музыкантах, о встречах с народными музыкантами, о раздольной и просторной, как степь, русской музыке и затем опять возвращается к музыкантам, которые встречали его на вокзале. — Удивительно плохо играли. Растрогались. Никогда не предполагал, что музыканты столь чувствительны к приезду какого-то там писателя. Музыканты, как правило, ничего, кроме музыки, не знают.
Кто-то замечает, что растроганность советских музыкантов — признак возросшей культуры: знают кое-что и кроме музыки, знают и любят.
Горький сквозь дымку, льющуюся из пепельницы, смотрит с удивлением на говорящего:
— В Италии этого б никогда не могло случиться. Там бы музыканты плакали оттого, что уж очень они хорошо играют, и господин Горький, которого несут — довольно неумело, добавим, — на руках, плачет оттого именно, что они хорошо играют. А играют итальянцы последнее время отвратительно!
Он бьет пальцем по столу чуть слышную, порывистую трель и говорит:
— Много любопытного на Руси… чрезвычайно много! Безбрежная страна и народ безбрежный: к другу сердоболен, к врагу грозен. Последнее время ко мне много пишут. Основная тема писем: восхищение страной и друг другом. И восхищение хорошее, слегка даже ворчливое. Этого никогда на Руси не бывало. Это, если хотите, признак стройности стана: выпрямилась матушка Русь, по-шла-а. Хорошо! И хорошо еще и то, что и не знают, чем бы им друг друга отблагодарить. Выбирают. И чувствую, что выберут что-то огромное, величественное, такое, что другому народу и не снилось.
Костерик в пепельнице потух. Он уминает пепел и говорит:
— У меня сегодня праздник, я растроган, я говорю, может быть, чересчур чувствительно. Извините. Но очень приятно, помимо всех праздников, жить на Руси и чувствовать себя гражданином нового ее строительства. Хороша Русь, и много в ней любопытного, жгучего, несокрушимого! Всесильная, иногда мучительная, но всегда заманчивая страна.
Помолчав, он говорит:
— Люблю, грешный, искусство, пылкие исторические события, горячую и могучую природу, и теперь, ежели б вы соединили в одно историю, искусство и природу Испании, Италии, Франции и еще Америки впридачу, и сказали б: вот тебе, господин Горький, бери, наслаждайся… я бы только головой мотнул. — Он, улыбаясь, отрицательно мотает головой. — И тут, по гордости своей, так как я теперь, изволите видеть, имею прозвище «великого», оглянулся бы на Русь. А она, матушка, стоит и тоже головой отрицательно мотает. Много любопытного на Руси, а всего любопытней человек, коему и поклонимся.
Я возвращался из Мацесты в Сочи берегом моря. Солнце закатывалось. Голубые и черные лодки плыли обратно. Я шел по железнодорожной насыпи. Вдруг за кустом я услышал знакомые фразы. Читали «Войну и мир». Тонкий голосок после каждой фразы спрашивал: «Понятно? Продолжаю». И гортанный голос отвечал ласково: «Ну зачем спрашиваешь, джанымау? Такие события происходят, а мы не понимаем? Скорей».
Несколько каменотесов сидели вокруг девушки в синем. Позади всех слушал ее широколицый казах. Перед ним лежал халат, на нем — краюха хлеба и узкая бутылка вина.
— Э, еще кунак пришел! — закричал он, увидев меня. — Садись, кунак, садись, будешь слушать. Они в тетради пишут, а я тебе так расскажу. Какие события пишет!
Волосы у него черные, щетинистые и столь густы, что и шея покрыта ими до спины. Он сидел без рубахи. Мышцы его резко выступали при движениях. Он покачивался, хлопая себя по ляжкам, лицо его сияло.
— В Москве собирались, рассуждали, какие книжки писать. Джанымау дорогой! Пиши любые, но чтоб я радовался. Ты меня не узнаешь? Меня Шибахмет Искаков зовут. Не помнишь такого?
— Нет.
— В Павлодаре, лет двадцать назад, вертельщиком был, ведомости помогал печатать. Ты буквы выдергивал шилом днем, а спал на кухне! А утром меня будил рано: «Шибахмет, поедем на Иртыш за водой». Ха! Я надеваю штаны. А они от старости рассыпаются. А теперь посмотри, какие у меня штаны, рабочие! А какие я надеваю в праздники, у, джанымау! Тебя как называют?
Я узнал его. Шибахмет положил вино, хлеб и стаканчик в карман и пошел за мной. Он покачивался, тряс халатом, прислушиваясь к звону стаканчика. Он улыбался очень протяжно. Он, видимо, радовался и тому, что встретил сибиряка, и тому, что я изумился его памяти.