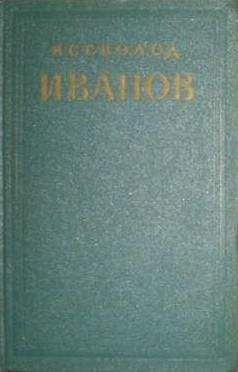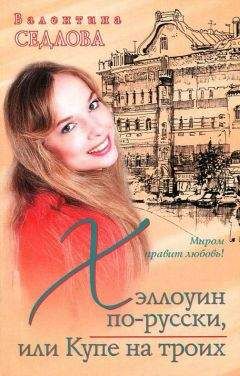Всеволод Иванов
ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
В двух томах
Том первый
В настоящее двухтомное издание я включил часть произведений разных лет, которые, как мне кажется, отображают мой путь в советской литературе.
В первый том входят повести «Партизаны» и «Бронепоезд 14–69», три цикла рассказов: о гражданской войне, о недавних днях и о далеком прошлом; книга «Встречи с Максимом Горьким» и пьеса «Ломоносов».
Второй том составляет роман «Пархоменко» о легендарном герое гражданской войны.
IЦифры блестели перед глазами: на дверях купе, на рамах окна, на ремне, на кобуре револьвера. Везде! Точно огромная мясистая цифра 8, на койке, упадая коротко стриженной головой в огромные плечи, отдыхает прапорщик Обаб, помощник капитана Незеласова.
Даже на сигаретах, которые одну за другой испепелял капитан и пепел которых мягко таял в животе расколотого чугунного китайского божка, тоже цифры и английские — поджарые, словно галеты, — буквы.
— Цифр много, а толку мало! Стекаем, как гной из раны… Все — и беженцы, и утонувшие в снегу правительства… Но-но! Я спрашиваю вас, прапорщик? А дальше куда?.. В море?
Обаб наискось оглядел искривившиеся лицевые мускулы капитана. Ответил:
— Вам лечиться. Надо.
Был прапорщик Обаб из выслужившихся добровольцев колчаковской армии. О всех кадровых офицерах говорил: «Сплошь болезня».
— Без леченья плохо. Вам.
Незеласов торопливо выдернул сигаретку:
— Заклепаны вы наглухо, Обаб… ничего до вас не дойдет!..
И, быстро отряхивая пепел, визгливо заговорил:
— Как вам стронуться хоть немного… Ведь тоска, Обаб, тоска! Родина нас… вышвырнула! Думали всё: нужны, очень нужны, дозарезу нужны, а вдруг — ра-а-с-чет получайте… И не расчет даже, а в шею… в шею!.. в шею!!
И капитан, кашляя, брызгая слюной и дымом, возвысил голос:
— О рабы нерадивые и глупые!
Обаб протянул длинную руку навстречу сгибающемуся капитану. Точно поддерживая валящееся дерево, сказал с усилием:
— Сволочь бунтует. А ее стрелять надо. А которая глупее — пороть.
— Нельзя так, Обаб, нельзя…
— Болезнь. У нас. Вот атаман Семенов. Не мозгует. Бьет.
— Внутри высохло… Водка не идет… От табаку — слякоть, вонь… В голове — нехорошо… Преодолеть что-то надо, а что — не знаю и не могу…
— Женщину вам надо. Давно женщину имели? — Обаб тупо посмотрел на капитана. — Непременно женщину. В такой работе — каждый месяц. Я, здоровый, — каждые две недели. Лучше хины.
— Может быть, может быть… попробую… Почему мне не попробовать…
— Можно быстро, здесь беженок много… Цветки!
Незеласов поднял окно.
Запахло каменным углем и горячей землей. Потела плотно набитая людьми станция. Мокро блестели ее стены и близ дверей маленький колокол.
На людях клеймо бегства.
Шел похожий на новое стальное перо чистенький учитель, и на плече у него трепалась грязная тряпица. Барышни нечесаные, и одна щека измятая, розовато-серая: должно быть, жестки подушки, а может быть, и нет подушек — мешок под головой.
«Портятся люди, — подумал Обаб. — Хорошо бы жениться. В семью бы хорошо…»
Он сплюнул в платок и сказал:
— Ерунда! Мысли!
Незеласов теребил серую рыхлую бумагу телеграммы. Как везде, на телеграмме цифры. Как всегда, мутнеют зрачки Обаба:
— Опять?
— Что опять?.. В чем дело?
Обаб и Незеласов опять взглянули в окно.
Беженцы смущенно рассматривали стальную броню вагонов, орудия на платформах, и, казалось, рассматривают его, голого, а голый Незеласов костляв, похож на смятую жестянку из-под консервов — углы и серая гладкая кожа.
Он едко сказал в плечо Обабу:
— За спасителей нас считают… Ерусланы! В телеграмме пишут: у рельсов вершининский отряд показался… в городе…
Обаб грузно отодвинулся от окна.
— Жиды, капитан. И в городе — жиды, и у Вершинина — жиды. Дайте сигарету.
— Придут японцы помогать, а надо до них показать… Прикажите воду набирать… непременно… сейчас.
— Партизаны в появлении? Опять! Неймется.
Обаб ударил себя по ляжкам длинными и ровными, как веревка, руками.
— Люблю.
Заметив на себе усталый взгляд Незеласова, прапорщик сказал:
— Не насчет смерти. А чтоб двигалось.
Обаб степенно вздохнул — вздохом медленным, крестьянским.
— У нас сейчас в Барнаульском… уезде уборка. Рука по вожже зудится…
Незеласов, вскакивая, торопливо спросил:
— Прапорщик… Как наше начальство?.. Кто непосредственное начальство?
— Генерал Смирнов.
— Ага? А где он?..
— Партизаны повесили.
— Ага?.. Так. Значит, следующий. Кто?
— Следующий?
— Вас спрашивают.
— Генерал-лейтенант Сахаров.
— Ага?.. Он где, где?
— Не могу знать.
— А… где командующий армией?
— Не могу знать.
Капитан затянул ремень и хотел резко прокричать: «Ну и не рассуждать, исполняйте приказания!» — а вместо этого отвернулся и, скучно царапая пальцем краску рамы, спросил тихонько:
— Кого нам, прапорщик, слушаться?.. Ага?.. Кого мы с вами по телеграмме… Постойте.
Обаб шлепнул ладонью по животу чугунного кумирчика, словно пытаясь поймать в мозгу какую-то мысль… соскользнул.
— Не знаю… Стрелять — будем стрелять, очень просто. И, как гусь неотросшими крыльями, колыхая галифе,
Обаб шел по коридору вагона и бормотал:
— Не моя обязанность… думать… Я что?.. Лента, а обойма… Очень нужно… думать…
IIТоропливо отдал честь тщедушный солдатик в голубых французских обмотках и больших бутсах.
Незеласову не хотелось толкаться по перрону, и, обогнув обшитые стальными щитами вагоны бронепоезда, он брел среди теплушек с эвакуируемыми беженцами.
«Ненужная Россия, — подумал он со стыдом и покраснел, вспомнив: — И ты в этой России».
Нарумяненная женщина напомнила предложение Обаба. Капитан сказал громко:
— Дурак!
Женщина оглянулась: печальные, потускневшие глаза и маленький лоб в глубоких морщинах.
Незеласов отвернулся.
Теплушки обиты побуревшим тесом. В пазах торчал выцветший мох. Хлопали двери с ремнями, заменявшими ручки. На гвоздях у дверей в плетеных мешках — мясо, битая птица, рыба. Над некоторыми дверями — пихтовые ветки, и в таких вагонах слышался молодой женский голос. А в одном вагоне играли на рояле.