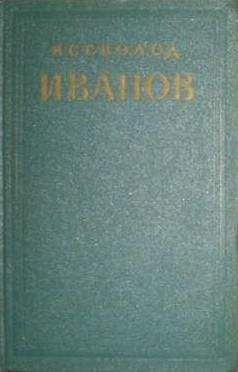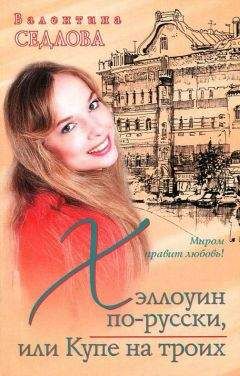Партизаны упорно глядели на запад, а на западе отсвечивали золотом розоватые граниты сопок. Мужики вздыхали, и от этих вздохов лошади обозов поводили ушами и передергивались телом, точно чуя волка.
А китайцу Син Бин-у казалось, что мужики за розовыми гранитами на западе уже видят иное, ожидаемое.
Китайцу хотелось петь.
Никита Вершинин был рыбак больших поколений.
Тосковал он без моря, и жизнь для него была — вода, а пять пальцев — мелкие ячейки сети: все что-нибудь да и попадет.
Баба попалась жирная и мягкая, как налим. Детей она принесла пятерых — из года в год, пять осеней, — когда шла сельдь, и не потому ли ребятишки росли светловолосые — среброчешуйники. Срубил избу, сутунки сам таскал из тайги. Детей берег от сырости и лихоманок. А вот сожгли японцы избу, детей — все счастье…
На весь округ обошел послух о его, вершининском «счастье», и когда волость решила идти на японцев и атамановцев, председателем ревштаба выбрали Никиту Егорыча.
От волости уцелели телеги, увозящие в сопки ребятишек и баб. Жизнь нужно было тесать, как избы — неизвестно, удастся ли, — заново, как тесали прадеды, приехавшие сюда из пермских земель на дикую землю.
Многое было непонятно, и жена, как в молодости, желала иметь ребенка.
Думать было тяжело, хотелось повернуть назад и стрелять в японцев, атамановцев, в это сытое море, присылающее со своих островов людей, умеющих только убивать.
У подножья яра камни прервали дорогу, и к утесу был приделан висячий, балконом, плетеный мост. Матера рвалась на камни, а ниже билась, как в падучей, белая пена потока.
— Перейдя подвесной мост, Вершинин спросил:
— Привал, что ли?
Мужики остановились, закурили.
Привала решили не делать. Пройти Давью деревню, а там в сопки, и ночью можно отдыхать в сопках.
У поскотины Давьей деревни босоногий мужик с головой, перевязанной тряпицей, подогнал игренюю лошадь и сказал:
— Битва у нас тут была, Никита Егорыч.
— С кем битва-то?
— В поселке. Японец с нашими дрался. Дивно народу положено. Японец-то ушел — отбили, а чаем — придет завтра. Ну вот, мы барахлишко-то свое складываем да и сопки с вами думаем.
— Кто наши-то?
— Не знаю, парень. Не вашей волости, должно. Хрисьяне тоже. Пулеметы у них, хорошие пулеметы. Так и строгат. Из сопок тоже.
— Увидимся!
На широкой поселковой улице валялись телеги, трупы людей и скота.
Японец, проткнутый штыком в горло, лежал на русском. У русского вытек на щеку длинный синий глаз. На гимнастерке, залитой кровью, ползали мухи.
Четыре японца лежали у заплота ниц лицом, точно стыдясь. Затылки у них были раздроблены. Куски кожи с жесткими черными волосами прилипли на спины опрятных мундирчиков, и желтые краги были тщательно начищены, точно японцы сбирались гулять по владивостокским улицам.
— Зарыть бы их, — сказал Окорок. — Срамота!
Жители складывали пожитки в телеги. Мальчишки выгоняли скот. Лица у всех были такие же, как и всегда, — спокойно-деловитые.
Только от двора ко двору, среди трупов, кольцами кружилась сошедшая с ума беленькая собачонка.
Подошел к партизанам старик с лицом, похожим на вытершуюся серую овчину. Где выпали клоки шерсти, там краснела кожа щек и лба.
— Воюете? — спросил он плаксивым голосом у Вершинина.
— Приходится, дедушка.
— И то смотрю — тошнота с народом. Никоды такой никудышной войны не было. Се царь скликал, а теперь — на, чемер тебя дери, сами промеж себя дерутся.
— Все равно, что ехали-ехали, дедушка, а телега-то — трах! Оказывается, сгнила давно, нову приходится делать.
— А?
Старик наклонил голову к земле и, словно прислушиваясь к шуму под ногами, повторил:
— Не пойму я… А?
— Телега, мол, изломалась!
Старик, будто стряхивая с рук воду, отошел, бормоча:
— Ну, ну… каки нонче телеги! Антихрист родился, хороших телег не жди.
Вершинин потер ноющую поясницу и оглянулся.
Собачонка не переставала визжать. Один партизан снял карабин и выстрелил. Собачонка свернулась клубком, потом вытянулась всем телом, точно просыпаясь и потягиваясь. Издохла.
Старик беспокойно почесался.
— Ишь, и собака с тоски сдохла, Никита Егорыч. А человек терпит.
— Терпит, Егорыч. Бранепояс-то в сопки пойдет, бают. Изничтожит все и опять-таки пожгет.
— Народу не говори зря. Надо в горы рельсы.
Старик злобно сплюнул.
— Без рельсы пойдет. Раз они с японцем связались. Японец да американка все может. Погибель наша явилась, Егорыч. Прямо погибель. Народ-то, как урожай под дождем, гниет… А капитан-то этот с бранепояса из царских родов будет?..
— Будет тебе зря-то…
— Зол уж, и росту, бают, выше сажени, а бородища-то…
VIIIМужик с перевязанной головой бешено выгнал обратно из переулка свою игренюю лошадь.
Тело его влипало в плоскую лошадиную спину, лицо танцевало, тряслись кулаки, и радостно орала глотка:
— Мериканца пымали, братцы-ы!..
Окорок закричал:
— Ого-го-го!..
Трое мужиков с винтовками показались в переулке.
Посреди них шел, слегка прихрамывая, одетый в летнюю фланелевую форму американский солдат.
Лицо у него было бритое, молодое. Испуганно дрожали его открытые зубы, и на правой щеке, у скулы, прыгал мускул.
Длинноногий седой мужик, сопровождавший американца, спросил:
— Кто у вас старшой?
— По какому делу? — отозвался Вершинин.
— Он старшой-то, он! — закричал Окорок. — Никита Егорыч Вершинин! А ты рассказывай: как пымали-то?
Мужик сплюнул и, похлопывая американского солдата по плечу так, точно тот сам явился, со стариковской охотливостью стал рассказывать:
— Привел его к тебе, Никита Егорыч. Вознесенской мы волости. Отряд-то наш за японцем пошел далеко-о!
— А деревень-то каких?
— Селом мы воюем. Пенино-село слышал, может?
— Пожгли его, бают?
— Сволочи! Как есть все село, паря-батюшка, попалили, вот и ушли мы в сопки.
Партизаны собрались вокруг, заговорили:
— Одну муку принимаем! Понятно!
Седой мужик продолжал:
— Ехали они, двое мериканцев-то! На трашпанке в жестянках молоко везли! Дурной народ: воевать приехали, и молоко жрут с шиколадом. Одного-то мы сняли, а этот руки задрал. Ну и повели. Хотели старосте отдать, а тут ишь — целая армия!..
Американец стоял, выпрямившись по-солдатски, и, как с судьи, не спускал глаз с Вершинина.
Мужики сгрудились.
На американца пахнуло табаком и крепким мужицким хлебом. От плотно сбившихся тел шла мутившая голову теплота.