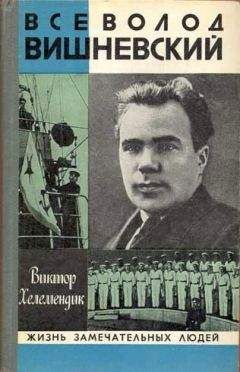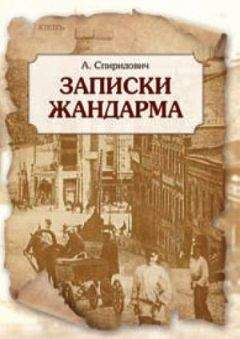Вишневский молча обнял бойца, крепко прижал к груди и сказал всего два слова: «Дорогой мой…»
Находясь в передовых частях наступающих войск, он доволен, безмерно счастлив этим: «Мне хотелось (инстинктивно и сознательно) быть на фронте, когда Россия отплачивает „за все“. Тут мое место! Это я ощутил и ощущаю. Война во всей обнаженности учит простым вещам: не будь суетлив, тщеславен и пр. Я смотрю на себя со стороны, и иногда мне кажется, что я все тот же рядовой 1914–1918 годов, делаю что нужно, подталкиваю орудия, вытаскиваю машины, навожу порядок на дорогах, дежурю. Есть во мне инстинкт солдата, и он меня ведет и учит: я знаю, как говорить с людьми, что делать в той или иной военной обстановке. И чем глубже я вглядываюсь в события — а мы видим необыкновенное: Германию Гитлера в агонии, — тем больше я хочу всем своим существом человеческой чистоты, солидарности, высоких этических норм» (Из дневника, 26 марта 1945 года).
Свое отношение к Германии Вишневский четко сформулировал уже тогда: надо немедленно начать борьбу за душу и интеллект немецкого народа, чтобы помочь ему выйти на путь новых мыслей, новой идеологии.
Однажды, вспоминает И. Золин, произошел типичный для характера и образа действий Вишневского эпизод. Они ехали на своем «виллисе» по шоссе, когда из-за поворота показалась колонна бывших военнопленных, освобожденных из немецких концлагерей. Не оборачиваясь к шоферу, Всеволод Витальевич попросил остановить вездеход и легко спрыгнул на асфальт. И вот он уже окружен толпой, о чем-то горячо говорит. Водитель, которому такие сценки доводилось наблюдать не раз и не два, прежде чем заняться своим делом, с удовлетворением констатировал:
— Подполковник начал доклад. Теперь я сумею осмотреть мотор…
Происходило очередное перевоплощение писателя, журналиста в агитатора или, пожалуй, точнее — в собеседника, пусть даже и немалого количества людей. Зная немецкий, английский и французский, Вишневский мог свободно разговаривать с людьми различных национальностей. Он расспрашивал, кто откуда родом, как относились к ним немцы, куда держат путь. А затем начинал говорить сам — о международной обстановке, о близкой победе над фашизмом. «Надо работать с этим народом, — объясняя свои летучие беседы-митинги, внушал он Золину. — Благодатная почва. А то мы их освободили и предоставили самим себе. А ведь им надо рассказывать, раскрывать глаза…»
И так всю жизнь: для общения с людьми во имя политического, агитационного влияния на них, разъяснения обстановки, анализа сложившейся ситуации, страстного призыва, побуждения к действию Всеволод Вишневский всегда использовал даже малейшую возможность. Он был настоящим Комиссаром: и летом незабываемого 1919 года, на глухом полустанке в украинских степях, где вокруг бронепоезда красных собирались крестьяне; и в беседах с допризывниками набора двадцатых годов, с кадровыми краснофлотцами и с комсомольцами Таджикистана. И на палубе военного корабля, и в землянках защитников Ленинграда, и в цехах Кировского завода, где под бомбежками, непрерывным артиллерийским обстрелом ни на минуту не прекращалась работа. И на улицах освобожденного Таллина, и в Берлине 30 апреля 1945 года…
При штабе 1-го Белорусского фронта насчитывается уже около тридцати журналистов и кинематографистов, и по вечерам все собираются вместе, чтобы обменяться новостями да и просто пообщаться. Кроме Вишневского и Золина, здесь Б. Горбатов, М. Мержанов, Я. Макаренко. Последний в своей книге «Белые флаги над Берлином», изданной в 1976 году, приводит ряд эпизодов, связанных с Вишневским.
…Вечером 12 апреля Всеволод Витальевич извлек из сумки «Фолькишер беобахтер» и, лукаво прищуря глаза и улыбаясь, сказал:
— Еще и вы посмеетесь… — И скороговоркой начал переводить статью, в которой утверждалось, что после чересчур быстрого форсирования Вислы Советская Армия едва ли способна начать новое наступление…
Вишневский был необыкновенно весел, рассказывал один за другим матросские анекдоты, а когда все разошлись на ночлег, вынул свой дневник в черной кожаной обложке.
Сейчас он ведет записи особенно строго: решающие дни — все ждут приказа о наступлении. Встретил Всеволода Иванова, и тот выразил свое настроение так: «У меня ощущение, как в детстве — перед большим праздником…»
16 апреля 1945 года Вишневский стал свидетелем и участником последнего, завершающего удара:
«4 часа 40 минут. Скоро начнется одна из крупнейших битв войны! Спокойствие и уверенность…
Интенсивнейший огонь! Гром и рык! Содрогание почвы.
Свист и разрывы ответных немецких снарядов.
В небо взвился сигнальный луч, а за ним — прямо в глаза немцам — ударил сплошным фонтаном ярчайший свет мощных прожекторов. Он, пробивая дым и пыль, ослеплял противника! Он высвечивал нашей армии немецкие рубежи.
Постепенный, почти незаметный в свете прожекторов рассвет…
6 часов 15 минут. С востока, из-за лесов, с равнин родной, благословенной России встает солнце… На всем 1-м Белорусском фронте работает до 22 000 орудий! Танки и самоходки катятся по полям, изрыгая огонь и подымая тучи пыли. Над полем боя несет лесной гарью. Танки-тральщики идут на минные поля, пробивая проходы для пехоты.
Гвардия двинулась по низине!»
Вишневский — в наступающих танковых и пехотных частях, при штабе 8-й гвардейской армии генерал-полковника Василия Ивановича Чуйкова. Герой Сталинградской битвы, участник гражданской войны, человек сильный и властный сразу понравился Вишневскому, и чувство симпатии оказалось взаимным.
В дневнике подробно фиксируется ход наступления, распоряжения Чуйкова, ответы командиров подразделений. И рядом — публицистические отступления, которые автор не может сдержать, — чувства переполняют его душу: «Битва разгорается! Наши генералы, офицеры и солдаты — в крови, опыте и традиции которых тысячелетняя сила и слава России, ее ум и гордость, — понимают, какую они ведут битву. В этой битве у наших людей на душе чисто, свято.
О, эта битва! — тут Ленинград и Сталинград, тут Украина и Грузия, тут Армения и Сибирь… тут весь Советский Союз упрямо и гневно идет сквозь огонь, дым и проволоку…»
Движение автоколонн — на Берлин! На автомобилях и грузовиках пробоины, разбиты стекла. На лицах шоферов шрамы, белеют бинты повязок. Кровью многих из них полит весь путь до Берлина. Один затормозил машину:
— Здравствуй, товарищ Вишневский!
— Откуда, друг?
— Из Ленинграда…
Они крепко жмут друг другу руки. Видимо, у этого шофера жило чувство сродни чувству писателя Николая Чуковского, который в блокадные годы мечтал: «Признаться, никого бы мне так не хотелось повстречать в Берлине, как Вишневского…»