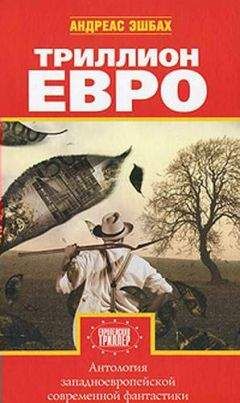"Меня это не интересует", - бесстрастно сказал тогда Сталин, окинув хмурым взглядом членов Политбюро и военных, собравшихся на совещание. В этой фразе, в прозвучавшем голосе как бы высветлилась мысль, что выше имени "Сталин" ничего быть не может.
Потом он бегло прочитал немецкую листовку, отложил ее в сторону и, ни на кого не глядя, стал раскуривать трубку. После паузы сказал:
"Когда враги ругают - это хорошо... А вы пытаетесь подсластить мне пилюлю... Не нуждаюсь..."
Неловкое молчание нарушил маршал Шапошников:
"Иосиф Виссарионович, душевно прошу понять меня. Товарищ Ленин говорил, что война есть не только продолжение политики, она есть суммирование политики... А "верховность" власти предполагает руководство суммированной политикой плюс экономикой. Это азы современной военно-исторической науки. Войной действительно руководит верховная власть государства. И понятие войны замыкается не только в вооруженной борьбе на фронтах, а включает в себя и борьбу политическую, дипломатическую, экономическую".
Маршала поддержал Молотов:
"Коба, тут не подходит украинская поговорка: "Называй меня хоть горшком, только в печь не суй". Мне в отношениях с теми же англичанами очень важно опираться на самые высокие регалии советского руководства".
"Ладно, решайте как хотите", - смягчившись, ответил Сталин.
Воспоминания Жукова прервал вышедший из пилотской кабины командир воздушного корабля - русоголовый, с удлиненным светлым лицом - старший лейтенант. Дверь за ним осталась открытой, и шум двух самолетных моторов стал громче, будто приблизился.
Подойдя к Жукову, летчик наклонился над его креслом:
- Товарищ генерал армии, разрешите доложить!
- Докладывайте. - Георгий Константинович вблизи посмотрел в серые, чуть косящие глаза старшего лейтенанта, уловив в них тревогу.
- Разведка погоды доносит, что по нашему маршруту над Ладожским озером небо без облаков! Обойти нельзя!
- Ваше решение? - спокойно спросил Жуков.
- Решение приняли без меня! - ответил старший лейтенант. - Над Ладогой нас будет прикрывать звено истребителей!
- Добро. - Жуков утвердительно кивнул.
Затем старший лейтенант повернулся к воздушному стрелку, восседавшему над стремянкой, и ладонью хлопнул его по сапогу. Из-под колпака, вобрав шею в плечи, выглянул юноша, совсем еще мальчик. Жуков только сейчас разглядел, что на нем кожаная тужурка. Командир корабля сказал стрелку, видимо, о погоде, о наших истребителях и опасности быть атакованными "мессершмиттами ", вернулся в кабину, приглушив хлопком двери шум моторов, а Георгий Константинович, сбившись с прежнего течения мыслей, почему-то устремил их в далекое прошлое.
Такова уж натура человека: живет он будто сегодняшним днем и в то же время подсознательно ощущает в себе прожитые годы, берущие начало от далеких, размытых и туманных берегов детства, когда мысль и память сливаются воедино.
Георгий Константинович, задумываясь над своей непростой судьбой, возведшей его в ранг высокого военачальника, изумлялся тем шагам, поступкам и событиям поры своей молодости, тем стечениям обстоятельств, которые, вместе взятые, предопределяли его жизненный путь. Почему-то вспомнились два прапорщика из родной Стрелковки. Он, девятнадцатилетний, приехал тогда из Москвы в деревню повидаться с родными и земляками перед уходом на войну. Прапорщики разгуливали по улице вдоль пруда чуть хмельные, важные от воображаемого своего величия и в то же время в чем-то такие жалкие, нескладные, вызывавшие чувство неловкости и даже стыда за честолюбивую мелкость человеческой натуры. Конечно, командовавшие в армии взводами, начальствующие над двумя-тремя десятками бывалых солдат, они в собственном представлении видели себя незаурядными личностями.
А ведь ему, Гоше Жукову, тоже предстояло попасть в школу прапорщиков, ибо за плечами у него была трехклассная церковноприходская школа...
Нет, не хотел он стать похожим на прапорщиков-стрелковцев с их убогим миропониманием, и, когда его призвали на царскую службу, он не написал в казенной бумаге, какое имеет образование. И судьба Георгия начала слагаться, как и у многих других: прослужив рядовым, окончил потом учебную команду унтер-офицерской школы в городе Изюме Харьковской губернии. Там строевая муштра, наука окопной войны, штыковых и конных атак были поставлены основательно... После февральской революции его избрали председателем эскадронного солдатского комитета, затем членом полкового...
Не праздные это мысли, а холодившие запоздалой тревогой сердце. Стань он прапорщиком, последовали б очередные офицерские звания за необузданную храбрость и отличия в боях. Не будучи политически зрелым и по молодости ослепленный своими двумя Георгиевскими крестами, офицерскими погонами и офицерской властью, вдруг не сумел бы разобраться, с кем ему идти: с большевиками, меньшевиками, эсерами?.. Были ведь и такие, как он, из народа, которые пошли по чужой дороге, не сумев разглядеть в Октябрьской революции свою истинную судьбу. А если бы и его постигла такая тяжкая беда? Могло ведь случиться и такое из-за зеленого ума. И была б искалечена жизнь, может, доживал бы свой век испоганенно - в эмиграции или постигла б участь тех, кого в свое время нарекали врагами народа только уже за одно то, что были когда-то белыми офицерами.
Нет! Уже и тогда ощущение правды жило в нем властно и призывно! Нутром чувствовал, куда и с кем идти. Двадцать пять лет просидел на коне, прокладывая свой путь. Унтер-офицерил, потом командовал в Красной Армии взводом, эскадроном, полком, дивизией, корпусом и куда выше!.. И постоянная учеба. Однако странно, что память изредка возвращала его к годам унтер-офицерской службы в царской армии. Еще тогда стало проявляться в нем военное призвание, еще там понял, в чем главная суть обучения и повседневного воспитания солдат, а также командования ими в бою. И стало властно пробуждаться в нем чувство стража родной земли... Среди начальствовавших над ним офицеров тоже было немало цельных натур, настоящих трудяг, умелых и разумных, не жалевших ни сил, ни сердца на подготовку армии. Но все-таки самое нелегкое сваливалось на унтер-офицеров не только в обучении солдат, но и во время боевых действий. Может, впервые глубоко задумался над этим, когда в двадцать первом сам чуть не погиб от руки унтер-офицера из антоновской банды.
Это были жестокие схватки с армией в пятьдесят тысяч штыков и сабель. Бригада, в которой служил Жуков, оказалась крайне измотанной и обескровленной антоновцами. Однажды от окончательного разгрома спасли ее полсотни пулеметов, имевшихся на вооружении эскадронов. Тогда под Жуковым был особенно лихой конь: его прежнего хозяина Георгий застрелил в рукопашной схватке. И вот сложилась ситуация, когда отступавшие антоновцы вдруг развернулись для контратаки. Жуков не сдержал своего коня, и он вынес его шагов на сто вперед эскадрона. Но сзади уже послышались команды "Шашки к бою!", и он дал коню волю... Началась взаимная рубка, обагрившая кровью первый снег, покрывавший белой пеленой широкое поле, луг и опушивший кроны деревьев недалекого леса. Антоновцы вновь обратились в бегство. Жуков заметил, что один из них, по всей видимости командир, устремил своего коня по снежной тропке к опушке леса, и кинулся с обнаженной шашкой в погоню. Видел, как удиравший суматошно нахлестывал плеткой лошадь то по правому, то по левому боку. Жуков настиг антоновца, замахнулся для рубки, но тот, бросив плетку налево, единым движением выхватил из ножен клинок и мгновенно - казалось, без размаха - рубанул своего преследователя поперек груди... Жуков не успел даже закрыться и выпал из седла, чувствуя, что на нем рассечены не только ремни от ножен шашки, кобуры пистолета и от бинокля, но и сукно на крытом полушубке...