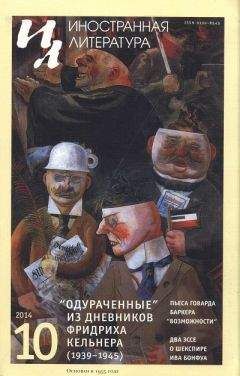Русские, точно дети, могут в один момент быть жестокими, а буквально в следующий поделиться с тобой черствой горбушкой – последним, что у них есть. Я полюбил этих людей, которые, несмотря на жизнь под постоянным гнетом, никогда не утрачивали индивидуальности и не переставали любить свою страну. Вечерами мы нередко слышали пение, доносившееся до нас из русских лагерей, грустные песни под гармонь, которые, казалось, исходили у этих людей из самых глубин души.
Однако доводилось нам становиться свидетелем и таких вещей, от которых закипала кровь и которые заставляли нас вспоминать о заплечных дел мастерах Средневековья.
С наших зубов срывались золотые коронки, нас заставляли на тачках вывозить за пределы лагеря трупы наших товарищей, сваливать их в ямы и засыпать землей, а еще – постоянные «шмоны» – обыски, в процессе которых у нас отбирали последнюю собственность. Все это казалось нам бессмысленной варварской жестокостью. Даже фотографии близких у нас отнимали и рвали на наших глазах. На наши мольбы сохранить хотя бы снимки наших близких нам обычно отвечали грубыми насмешками и словами вроде: «В Германии бабы хорошие и покладистые. Твоя жена давно уже с другим».
И еще выводило из себя это извечное «давай», которым подгоняли нас надсмотрщики и охранники, как и не менее любимое «завтра», которое мы слышали в том числе и как ответ на вопрос, когда же нас отправят домой. Для нас это походило на издевательство.
На работе наши отношения с русскими осужденными, трудившимися плечом к плечу с нами, были намного лучше. Наверное, нас объединяла общность судеб – одна и та же участь, к которой они, однако, приспосабливались быстрее, чем мы. В какой-то момент в России насчитывалось до трех миллионов заключенных из числа самих русских. В городах и селах почти в каждой семье был хоть один человек, отбывавший или уже отбывший срок в лагере. Но если подумать, не являлась ли вся Россия одним гигантским лагерем?
Тянулись монотонные дни, проходили недели. Раньше душу грели хотя бы письма из дома, тут же поначалу мы были лишены и этого – требовалось не меньше месяца, чтобы новый адрес дошел до близких и они смогли написать ответ.
Мы не понимали, почему русские засунули нас, штабных офицеров, в один лагерь с военнослужащими полиции и войск СС, которых они называли «военными преступниками». Возможно, нас считали в перспективе «реваншистами»? Это определение живо в русском языке и по сей день.
Халли Момм жаловался больше всех:
– Я был против Гитлера, за что меня разжаловали и отправили «исправляться» в «бригаду Дирлевангера». Так за что же теперь меня держат здесь?
Но вот по пересыльному лагерю пополз слух о том, что нас скоро всех отправят в штрафной лагерь. Русский офицер сказал нам следующее:
– Поедете в штрафной лагерь, где вам вынесут приговоры.
Что это было, угроза или информация?
Он сказал правду. С конца 1948 г. и далее в начале 1949 г. из Тифлиса один за другим уходили эшелоны, которые отвозили нас в неизвестном направлении. Наступил и мой черед. Снова вагон, запертые на засов двери и подозрительные охранники. Надежда уходила, сменяясь апатией. Снова стучали колеса – составы катились на север, путь опять лежал через горы Эльбруса, чтобы закончиться наконец, как узналось позднее, в районе Киева, столицы Украины.
Во время долгого путешествия мы рассуждали о том, что же сталось с мечтой Ленина о государстве рабочих и крестьян – государственный капитализм самого гнусного пошиба, которым заправлял всевластный аппарат, опирающийся на грубое насилие и опутавший всю страну сетью осведомителей и соглядатаев. То, что получилось, было империей функционеров, основанной на «законах подхалимажа» – пресмыкайся перед высшими и втаптывай в грязь низших; всем здесь хотелось прорваться вперед, выкарабкаться наверх, выбраться из массы любыми путями. Мне не попадался ни один офицер или функционер, который бы относился к людям по-человечески. Чем труднее становилось воплощать в жизнь идеи Маркса и Ленина, тем более жестокой и продажной делалась система. Любые послабления могли в долгосрочной перспективе привести только к одному – к крушению. Глубочайшее разочарование испытывали те из наших товарищей по плену, которые в Германии вступили в ряды коммунистической партии, причем немало вынесли и выстрадали из-за приверженности к этой идеологии. Вера их поколебалась.
За несколько дней до нашей отправки в Киев мой багаж воспоминаний пополнился еще одним невероятным рассказом. По пути на обед рядом со мной вдруг откуда ни возьмись вырос молодой человек.
– Господин полковник! Боже мой! И вы тут! Вы что, не узнаете меня?
Передо мной оказался дежурный офицер из штаба 1-го батальона моего 125-го танково-гренадерского полка – батальона, на который 18 июля 1944 г. в ходе операции «Гудвуд» противник обрушил настоящий шквал снарядов и бомб и который практически полностью уничтожил. Тогда я тщетно пытался установить связь с этой частью и только лишь предполагал, что у них потери должны быть очень высокими.
– Бог ты мой, откуда вы и как тут очутились? Я и не думал, что вы живы. Расскажите же, что с вами произошло.
Мы договорились встретиться вечером, встретились, и он поведал мне свою историю:
– Поскольку мы хорошо окопались, во время обстрела и бомбардировки потери у нас были не такие уж значительные, как могли бы быть. Но потом, поскольку мы оказывали сильное противодействие, нас потрепали, а уцелевшие попали в плен к британцам. По каким-то неизвестным нам причинам нас передали американцам. Я в итоге оказался в США, а если точнее – на Среднем Западе. Обращались с нами просто первоклассно. Мне даже позволили продолжать занятия геологией и держать экзамен перед комиссией из Швейцарии. Мы не были обязаны работать, кто хотел – мог добровольно. Я работал, причем зарабатывал столько, что хватало не только на книжки, но и на то, чтобы заказывать костюмы у портного.
– Так как же вы сюда-то попали? – не утерпел я.
– А вот послушайте, – продолжал он. – В 1948 г. нас освободили. Мне позволили все забрать с собой, и я упаковал вещи в несколько ящиков, которые американцы и отправили в Германию. По прибытии туда я предъявил свидетельство об освобождении американскому офицеру, который спросил меня, куда бы я желал направиться. Я ответил, что хотел бы поехать к маме в Дрезден. «Боже мой! – воскликнул он. – Это же русская зона. У вас будут проблемы. Оставайтесь лучше в нашей зоне». Имея на руках свидетельство об освобождении, я не видел причин бояться и настоял. «Хорошо-хорошо, желаю удачи. Надеюсь, вам не придется пожалеть».
До мамы я так и не доехал. Едва пересек демаркационную линию между американской и русской зонами, предъявил свидетельство и попросил разрешения поехать к матери, так и начались мои беды.