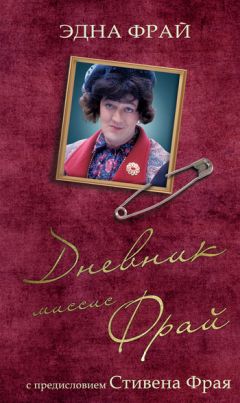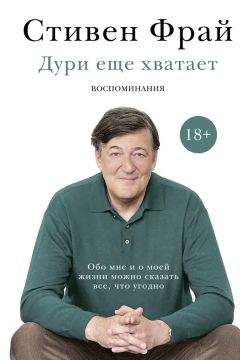– Ваше лордство согласится довести мое неотложное заявление до сведения соответствующих правительственных органов?
– Разумеется, разумеется! Э-э, а могу ли я спросить вас, молодой человек, – я понимаю, в тюрьме такие вопросы задавать не принято, так что вы можете не отвечать, – и все же, могу ли я спросить вас… за что вы, э-э, сидите?
– О, самое обычное дело, – небрежно ответил я, – за священников.
– Прошу прощения?
– За жестокие умерщвления служителей церкви. Я убил четырех младших каноников, двух архидиаконов, одного приходского священника и одного викарного епископа, оставив кровавый след, протянувшийся в прошлом году от Нориджа до Хексгема. Вы наверняка читали об этом в «Церковном Таймсе», не так ли, мой лорд? Помнится, статью обо мне поместили на третьей странице, сразу за результатами скачек.
– Ну хватит, Фрай. Довольно.
– Да, сэр. Извините меня, епископ, и простите мне столь взбалмошное чувство юмора. Боюсь, я просто вор, мой лорд. Обычные, приевшиеся всем махинации с кредитными карточками.
– А. Да, понимаю.
Я продолжал обучать Барри чтению, упражнялся в игре на пианино, с гулом катал по коридорам серебристый электрический полотер, писал письма Джо Вуду и прочим друзьям.
Барри, когда я в конце моей первой недели пребывания в зэках получил заработанные деньги, сказал мне, что лучший способ заставить курево дымиться подольше таков: свернуть сигареты и оставить их сушиться на радиаторе своей камеры. Я так и сделал, а возвратившись после Общения, обнаружил, что мои прекрасно свернутые сигареты исчезли – все до единой.
– Урок номер один, корешок, – сказал Барри. – Здесь никому верить нельзя.
Вот жопа. Во время Общения двери камер оставались открытыми, их запирали лишь после того, как заключенных «загоняли» вовнутрь. Сама мысль, будто в здании, полном воров, можно преспокойно оставить свой табак лежать без присмотра и полагать, что после твоего возвращения он так и будет тебя дожидаться, была попросту нелепой. Барри услаждался моими сигаретами, время от времени оставляя мне половинку, – так протянулась первая моя скорбная бескуревная неделя.
В один из вечеров следующей недели мы с ним направлялись на Общение и невесть почему решили, что, если проволакивать наши резиновые подошвы по полу, оставляя черные полосы, получится очень весело. Я-то, заслышав приближавшиеся шаги, забаву эту оставил, а Барри застукали на месте преступления.
– Хьюгс! Два дня без Общения!
– Но, сэр! – взмолился Барри.
– И нечего тут скулить, жалкий мудила. Три дня.
– Сэр, считаю необходимым признаться, что я повинен в не меньшей мере, – сказал я. – Перед тем как вы появились из-за угла, я проделывал то же самое. Собственно говоря, мои следы были еще и почернее его.
– Вот как, паренек? Но ведь я-то этого не видел, верно? А раз я не видел, как ты это делаешь, значит, ты этого не делал. Добавочный час Общения за честность.
– Урок первый, корешок, – сказал я Барри, когда вертухай удалился. – Старайся их озадачить.
Каждые два-три дня меня посещал назначенный судом инспектор по надзору. Главный вопрос, стоявший передо мной, заключался в характере наказания, к которому меня присудят. Зэки поопытнее в большинстве своем говорили, что мне следует ожидать отсидки в Исправительном центре – «короткого, резкого шока», который министр внутренних дел Рой Дженкинс с гордостью добавил к судейскому реестру возможных наказаний. Сроки отбывания в ИЦ были кратны трем месяцам – от минимум трех до максимум, если не ошибаюсь, девяти, а может быть, и года. Разговоры о них ходили самые неприятные. Подъем в пять, передвижение только бегом, разминка в гимнастическом зале, пробежка в столовую, десять минут на еду – стоя, снова разминка, упражнения со штангой – плюс то, что теперь именуется нулевой терпимостью к любому проступку. Человек выходил из ИЦ физически мощным, невероятно выносливым, а по повадкам не отличимым от зомби. Что и делало его идеально пригодным для работы, ну, например, вышибалой в сомнительной репутации ночном клубе, которая, как правило, уже через несколько недель снова приводила его на скамью подсудимых с обвинением в физическом насилии при отягчающих обстоятельствах. Только теперь он попадал в «большую крытку» и становился полноправным членом уголовного мира.
Другой возможностью был «борстал»[309] – с отсидкой, срок коей будет зависеть от моего поведения: при правильном тамошнего заключенного раз за разом повышали в ранге, каждый из которых отмечался ленточкой особого цвета, пока наконец начальник тюрьмы не находил возможным выпустить его на свободу. Тоже хорошего мало.
– Ну и, ясен пень, ты можешь получить просто добрую старую крытку. Скорее всего, месяцев шесть, – прикинул один из зэков.
Мой инспектор, мистер Уайт, великодушно оставлявший мне после каждого своего посещения пачку «Бэнд-Х», был настроен менее пессимистично. Он считал, что в основном все будет зависеть от его отчета, и не видел причин, по которым он не мог бы порекомендовать двухлетнее условное осуждение. Первое правонарушение, достойные, порядочные родители, к тому же я получил хороший урок.
Ведь я получил хороший урок, верно?
Я серьезно кивал. Все правильно, я получил хороший урок.
Не могу утверждать, что тюрьма хоть в какой-то мере политизировала меня. Лишь несколько лет спустя, начиная с неизбежных полуночных студенческих разговоров, я стал всерьез смотреть на мир через призму политики, однако я помню дрожь смущения, которая проняла меня от слов одного из моих товарищей. Смущение – эмоция не политическая, быть может, она – национальная британская эмоция, однако политической ее не назовешь. Гнев – да, ненависть – возможно, как и любовь, а вот смущение, по-моему, все же нет.
Слова, обращенные ко мне, – не помню кем (кажется, одним из лондонцев, ибо в «Паклчерч», несмотря на преобладание здесь выходцев из Юго-Западных графств и Уэльса, направляли и тех, для кого не находилось места в «Уормвуд Скрабз», людей по преимуществу смирных и не опасных, как правило отбывавших срок за неуплату штрафов), но тем не менее обращенные, – были когда-то сказаны и Оскару Уайльду.
– Люди вроде тебя не должны попадать в такие места, – сказал мне тот зэк.
– Ты это о чем?
– Ну, ты ведь образованный.
– Куда там. Сдал экзамены обычного уровня, вот и все.
– Брось, ты же меня понял. Места вроде этого не для таких, как ты.
Я и хотел бы сделать вид, что слов «таких, как ты» он не употребил, однако он употребил именно их. И вот как Оскар Уайльд описывает в «De Profundis» подобный же случай:
…и вплоть до последнего жалкого воришки, который, узнав меня, когда мы брели по кругу во дворе Уондсвортской тюрьмы, прошептал мне глухим голосом, охрипшим от долгого вынужденного молчания: «Жалко мне вас – таким, как вы, потруднее, чем нам».[310]