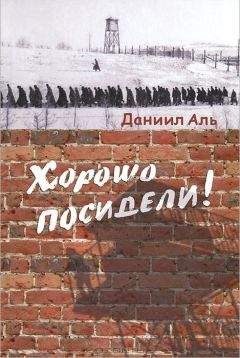по обвинению в преступлениях,
предусмотренных Ст. 58–10, ч. 1 УК РСФСР,
на срок 10 лет ИТЛ.
Глубокоуважаемый Никита Сергеевич!
Обращаюсь к Вам с просьбой, написанной в стихотворной форме.
Я избрал эту форму потому, что в стихотворении можно кратко и убедительно сказать то, на что иначе нужно много места.
На папке следственной — «хранить вечно».
Историки будущих поколений
Прочтут и смеяться будут, конечно,
Над пошлой нелепостью обвинений.
Да что там грядущее поколенье!
Вот она тут, бумажная кипа.
Сам следователь вынес постановление:
«Материалы ареста — сплошная «липа».
Но, не сменив материала подмоченного,
Ничего не добрав для судейских весов,
Следствие фабрикацию уполномоченного
Подшило, оформило и… в ОСО[23].
В ОСО штабеля недоказанных дел
Валяли быстрее котлет:
— Ага, агитация? — в ИТЛ.
— На сколько? — На десять лет.
Да, я агитатор. На фактах истории
Оружием лекций, книг и статей
Я агитировал в студенческой аудитории,
Учил рабочих, учительство и детей.
Как агитатор я очень был счастлив,
В окопной землянке, при двух фитильках,
Увидев бойцов наступающей части,
Сидевших с книжкой моей в руках.
Значит — страну от фашистских ударов
Я защищал не одним автоматом,
А бился в ста тысячах экземпляров
Книжки моей, выпущенной Воениздатом.
Специальность моя у историков редкая,
Не писал я о прошлом издалека.
В глубины веков уходил в разведку я
Для советской науки добывать «языка».
Палеография и сфрагистика,
Добрый десяток других наук,
Тысячи рукописей — до листика —
Вот стоимость фактов из первых рук.
И в ходе архивных кротовых разрытий,
Вздымавших рукописей пласты непочатые,
Родилось немало полезных открытий
(После ареста — и то печатали).
Дикость! — печатать брошюры и томы,
Агитировать в массах статей тиражами
И вдруг: «…Вы таким-то троим знакомым
Недовольство политикой выражали…»
Одни только бериевские кретины,
По счастью взятые теперь за жабры,
Могли малевать такие картины,
Подобные стряпать абракадабры.
А время плетется за годом год,
Дни отлетают, как дым.
Работа стоит, ребенок растет,
Сам я молод был — стал пожилым.
Пора на свободу. Но мне не по нраву
Быть на воле, а в главном урезанным.
Свобода, по-моему, — это право
Быть в полную силу полезным.
Для воли мой план нерушимый и четкий:
Стремлюсь к ней не благ обывательских ради,
Хочу одного: назад, за решетки
Отдела рукописей в Ленинграде.
И я бы, покуда хватило сил,
В сегодняшний день из архивных трущоб,
Истории жемчуг носил и носил.
Ваша помощь нужна, гражданин Хрущев.
Мне не известно, какое именно из этих двух моих обращений к Хрущеву дало желаемый результат. Допускаю, что одно из них заинтересовало кого-то из его помощников и было доложено патрону. Тот велел разобраться. Скорее всего, так и было.
В начале января 1955 года я вдруг заболел ангиной. Заболел в первый раз за все годы пребывания в лагере. Я несколько дней провалялся на койке в своей комнате в помещении учебной базы. Мой помощник и сосед Генрих Миронович Эмдин приносил мне из столовой еду, а из амбулатории лекарства.
Я честно полоскал горло и мерил температуру. Не забывали меня навещать остававшиеся еще на лагпункте друзья. Правда, я несколько удивился, когда среди бела дня, в самое горячее для него рабочее время, ко мне в комнату, толчком распахнув дверь, влетел один из активных участников нашей клубной самодеятельности и мой добрый приятель — закарпатский украинец Василий Яцула. Он был известен как хороший фотограф и в последнее время, не покладая рук, трудился в спецотделе Управления лагеря, делая фотографии на документы освобождающихся заключенных.
— Даниил Натаныч, пляши! — закричал он с порога.
— Ты что, с ума сошел?! — напустился на него мой сосед. — Не видишь — человек болен. У него температура тридцать восемь!
— Все равно, он сейчас запляшет! А не сможет, мы с тобой за него спляшем!
— Ну говори, говори же, Вася! — попросил я, приподымаясь. Надо ли говорить, что я догадывался, в чем дело.
— Мама Саша меня прислала, — сказал Яцула. — Беги, говорит, на второй лагпункт. Обрадуй Даниила Натановича. В спецотдел пришло извещение из Генеральной прокуратуры о его освобождении. И не просто об освобождении, а о полной его реабилитации.
Я искренне поблагодарил доброго вестника и стал одеваться, чтобы идти на почту, дать телеграмму домой.
— Пишите телеграмму, я добегу до почты, отправлю, — сказал Яцула.
— Нет, нет. Я сам.
И я действительно, несмотря на протесты друга, оделся и пошел на поселковую почту. Правда, Василий заставил меня измерить температуру. Произошло медицинское чудо. Температура оказалась нормальной. И вообще мою болезнь словно рукой сняло. Больше я о ней и не вспоминал.
Потом я узнал, что постановление о моей реабилитации датировано 3 января. Документы об освобождении я получил на руки только пятнадцатого. Билет на проходящий через Ерцево поезд на Вологду, где предстояла пересадка на ленинградский поезд, удалось достать только на 18 число.
Невозможно — да и не интересно это было бы для читателя — описать свои переживания этих дней ожидания выхода на свободу, возвращения домой к жене и сыну, к любимой работе. Тем более, что описывать свои переживания я не мастер.
Невозможно также описать эпопею (не нахожу здесь другого слова) моих прощаний с друзьями на лагпункте и в Ерцеве. Расскажу только о самых последних минутах моего пребывания на ерцевской земле. Под влиянием нелепого предположения: «А вдруг мне не повезет, и поезд придет раньше, чем нужно по расписанию», — я на всякий случай пришел на вокзал за час до прихода поезда. На вокзале не было ни души. Даже касса была закрыта.
Держа в руке чемодан, я вышел на пустынную платформу и стал вглядываться в даль — не идет ли поезд. Буквально через минуту я увидел приближающийся паровоз. «Как хорошо, что пришел раньше!» — успело «сообразить» мое нацеленное в одну точку сознание. Тут же я понял то, что прекрасно знал и должен был понять сразу.