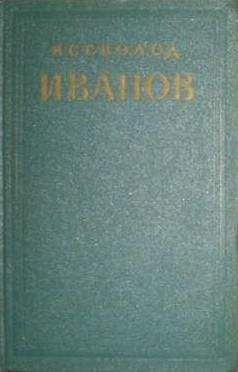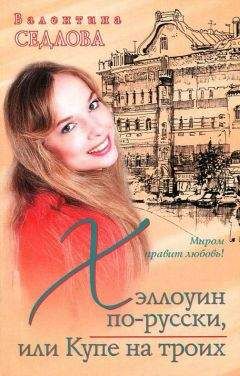— Итальянцы вообще народ забавный. Нежно болтливы, пленительны, певучи, но жить здесь теперь из-за фашистов час от часу становится тяжелей. Прошусь на родину, сударь мой, прошусь. Тосклив здесь и тяжел для меня климат Италии.
И он опять возвращается к дюку Серра-Каприола, долепливает портрет его. Как-то, почувствовав себя дурно, дюк подписал завещание. Он распределил его по частям: кому что. А нужно сказать, что давно предок нынешнего дюка был послом неаполитанского короля в Петербурге. Этот Серра-Каприола был любителем искусств и даже сам гравировал. Женился сей посланник на русской, на княжне Волконской. С княжной состоял в переписке А. С. Пушкин, и в семейном архиве Серра-Каприола сохранились письма Пушкина. И нужно случиться так, что письма А. С. Пушкина по завещанию должны перейти к тому сыну, который фашист. В те дни как раз Алексей Максимович вел переговоры со стариком, чтоб тот, за хорошие деньги, уступил письма Пушкина русским. Когда фашист узнал, что старик Серра-Каприола хотел продать русским письма Пушкина, он в ярости взвалил вообще весь семейный архив на тачку и повез топить в море. Чем русским, лучше — в море! Еле отбили. И с того дня письма исчезли. Спрятал, наверное. Подставных людей даже подсылали, — не желает и говорить, мерзавец!..
— Конечно, частность. Конечно, три-четыре пропавших письма Пушкина — горе, но с ним можно помириться. Беда в другом. Пропавшие, уничтоженные в дикой злобе письма Пушкина — знак общего культурного обеднения Италии. Развивается паразитизм, шпионство, подлость, бездельничество.
Алексей Максимович ведет нас в первый этаж дома, где в большой комнате устроена мастерская для художников. Живописью немного занимаются сын его Макс, невестка Надежда Алексеевна и художник И. Ракитский, друг Горького, постоянно живущий в его доме, мечтатель; несколько лет назад он совершил путешествие на корабле вокруг света и до сих пор не может опомниться от виденных чудес: глаза у него тяжелые, чадные, словно умчавшиеся куда-то. А кроме них, в доме сейчас гостит художник В. Яковлев, приехавший из России. Горький им восхищен, и, мне кажется, не столько искусством художника, сколько изумительным его трудолюбием. Очарованный быстротою кисти, настойчивостью, человек ночей не спит, а все пишет. Горький требует, чтоб показали нам все этюды, и художник послушно их показывает.
— Русь часто понимала свободу как свободу от труда. Но теперь, через большевиков, она поняла, что такое свободный труд. Прогресс поразительный. Чудеса творятся на Руси благодаря этому прогрессу.
На лице его можно прочесть, что такое жизнь, как не стремление к счастью и не борьба за него, а значит, и борьба за прогресс! Прогресс — это указка пути к счастью, пути ближайшего, самого удобного, самого доступного пути. Указка эта дана нами, русскими, дана большевиками, и это приятно сознавать, и приятно смотреть на наш труд, и приятно праздновать новый, 1933 год, хотя на Западе и повисли темные тучи.
И он говорит:
— Но самый опасный и трудный барьер для прогресса — самодовольство, самонадеянность, ограниченность!
Выходим из мастерской. Снаружи, под аркой, возле своей будки, лежал лохматый и старый пес. Алексей Максимович, сбросив пепел, указал папироской на пса:
— Прошу обратить также ваше внимание на остатки итальянской степенности, запечатленной в этом псе. Италия запугана и загнана шпионами, степенность потеряна, и будет чрезвычайно жаль, когда эта собака сдохнет.
Он стоял у входа в дом. Фонарь освещал листья агавы, тяжелые, темно-синие железные ворота вблизи и итальянца в длинном пальто, который, зыбко-тягуче волоча ноги, прошел, оглянувшись на нас, мимо ворот.
Горький продолжал:
— А когда я бродил по нашим степям, там однажды волкодавы губернатора съели. Вместе с эполетами. Не верите? В том-то и дело, что именно с эполетами. Этого, видите ли, казакам так хотелось, потому что ничего более позорного для своего губернатора они придумать не могли. А украинец, он каждый — казак, и на выдумку, как и каждый казак, богат.
Мимо ворот прошел опять итальянец в длинном пальто и опять оглянулся. Горький закурил, кашлянул и, входя в дом, сказал:
— Меня всю жизнь сопровождает такое количество шпионов, что я к ним привык и даже иногда подкармливаю их. Дрожит на морозе, надо, думаю, обогреть, а то и нужного для тебя человека не пропустит. А я сегодня певцов жду. Макс, пропустит он певцов?
— Я его уже подкормил, — сказал Макс. — Пропустит.
Он был очень хорош в тот новогодний вечер: по-праздничному высокий, прямой, очень веселый. Ему было всегда отрадно смотреть на мир, но в тот вечер, быть может, мир казался ему еще более чарующим и обольстительным, чем всегда. На тот вечер он забыл, что над миром повисла угроза чудовищной войны, ворота в царство которой откроет в этот год Германия. Уже на улицах Берлина день и ночь торчат хари в хаки, в походных сапогах, гремя металлическими кружками, словно кандалами. Они собирают деньги на нацистов, на Гитлера, на войну, на убийства.
И щурился он как-то по-особому, по-эпически-олимпийскому. Повторяю, он очень любил и понимал праздники, и, когда встречал праздники или празднично умного человека, он весь внутренне поднимался на какую-то волну и так катился по миру, блестя пеною шумливых речей, воркующе глухим смехом и насквозь просвечивающими вас беспредельно синими глазами.
С громадным нетерпением ждал он прихода певцов и музыкантов, которые ходят по Сорренто накануне Нового года, как у нас в деревне ходят на рождество «славильщики», только поют здесь не церковное, а светское, да одеты певцы по-маскарадному, хотя и без масок.
Наконец, певцы пришли. Ввалились они в мастерскую с пляской, бледные, со жгучими глазами от волнения. Оказалось, что перед тем как попасть сюда, они подрались с какой-то другой группой певцов, которая тоже хотела попасть к Горькому первой. Был особенно примечателен один, с влажно-палевым лбом, серьезными движениями, с бубном и веткой лимона вместе с плодом в петлице. Пел он и бил в бубен свободно, ликующе-воодушевленно. Художники нацелились его рисовать. Особенно их удивило, что певец — сапожник.
— Ничего поразительного нет в том, что он сапожник, — сказал Горький. — У нас на Руси много хороших певцов из сапожников. Не острите, пожалуйста, что поют-де, как сапожники, а сапоги шьют, как певцы. Посмотрите лучше вот на этого, поменьше. Он трубочист. Недавно у нас трубы чистил, отличный мастер.
Песня окончилась. Запевала-сапожник, с лимоном в петлице пиджака, подошел с бокалом к Горькому.
— За песню, — сказал запевала, чокаясь.