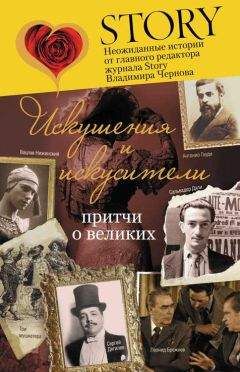Примерно в то время, может, чуть раньше или, наоборот, чуть позднее, я испытывал какое-то подобие обиды на женщин моей семьи. Они, мать и дочь, будучи в некоем единстве, стали отдаляться от меня. Эманация отстранения исходила в первую очередь от младшей, но меня более уязвляло отношение Галины. Ее самолюбию льстило (может, я и преувеличивал ее тщеславие?) то, что для дочери именно она стала «главным» милым другом в нашем доме.
В какой день, в какое мгновение ушли отрадные, бездумные, детские мои взаимоотношения с девчонкой, родившиеся вместе с ее возникновением в моей жизни? Бог весть. Но их отпечаток остался во мне неизгладимой окаменелостью, которая, кажется, только и жаждет, чтобы ее снова залила лава живого переживания…
Ну а живого чувства в контакте со взрослым человеком не получилось. Почему – не знаю. Как-то попытался выяснить это в разговоре с дочерью. Но видимо, не сумел толком выразить свою «жаль» и получил отлуп. Типа – сам дурак.
Через какое-то время заговорил об этом с Галиной. Она сказала, что дочь на меня обижена. Почему? В последний раз, ответила Галина, потому, что ты пристроил ее на работу в «Эхо Москвы» на низкую должность. А в предпоследний? Да тоже что-то в таком роде. Она считает это признаками нелюбви.
Ну, тогда таких «симптомов» было много. В «Советскую Россию» я внедрил ее лишь секретаршей отдела. Когда она училась в Институте культуры, через того же бывшего нашего ростовского Бориса Яковлева – рядовым библиотекарем в Центральном доме журналистов. А еще с помощью давнего товарища со времен «Комсомолки» Георгия Целмса – сотрудницей одной небольшой радиостанции, но тоже отнюдь не главным редактором. Много таких «обид» я мог припомнить за собой. Да, я не устраивал детей на завидные должности, признаюсь, не умел этого делать, никогда не был «влиятельным» и мог в чем-то им поспособствовать только содействием сослуживцев и добрых людей, с которыми сводила работа. Не знаю, печалиться этому или, напротив, благодарить судьбу, но среди них не было ни олигархов, ни тех, что называют себя элитой, ни всемогущих кудесников «прохиндиады».
Так тогда и понял: неспособный «устроить» папа не устраивает дочь. И… успокоился. Глупо тревожиться о том, чего у тебя никогда не было, нет и не будет.
А вот Галина переживала свое прошлое. В ее профессии трудно обойтись без этого, да и по своей психологической природе она склонна долго «перепевать» минувшее («сама себя пережевываю и выплевываю» – тысячу раз я слышал это ее выражение). А кроме того, многие из приходивших к ней интервьюеров вынуждали то и дело возвращаться памятью к делам давно минувших дней.
Я подумал об этом, пересматривая по Интернету видеосюжет «Галина Щербакова – о Галине Щербаковой (интервью 1992 года)», который сделали Генриетта Перьян и Олег Сидоров для Волгоградского телевидения. Пересматривал неслучайно, а потому что вспомнил, составляя эту главу: тему материнско-дочерней взаимосвязи Галя поставила едва ли не в центр той беседы. Выписанные из нее фрагменты, переплетаясь с тем, что сказано в письмах к сестре, представляют собой выстраданное размышление о природе родительских заблуждений.
«…До такой степени уверовали в то, что все плохое после Сталина кончилось и что теперь-то уж никогда ничего подобного не будет, что на этом дальше пошли ломаться судьбы…Что тут сказать, идиоты мы были, мы были большие оболваненные идиоты… Когда теперь наши дети, внуки начинают поносить шестидесятников и говорить, чем скорее мы уйдем с площадки, тем лучше будет (я знаю, как на это обижаются), то они правы…И те ребята, которые сегодня так осторожно поворачивают от нас – не только уходят… в бизнес, они просто от нас уходят. И я думаю, в этом есть большое благо…Это те, которые приходили домой, видели папу с мамой, которые в кухне вели диссидентствующие разговоры, пили водку, пели песни – Окуджаву, другие, чуть приблатненные песни. Потом мы утром отправляли детей в школу, и активным детям мамы говорили: деточка, вот этого не надо говорить.
…Однажды нас снимали на камеру для семейного фильма. Пришли родственники. У меня есть сваты мои любимые, которые в этом фильме признались в том, что они узнали, что Сталин плохой, после того как познакомились с мамой моей дочери, то есть со мной. Моя Катя им рассказала тогда: она была октябренком во втором классе, пришла домой, раздевалась и пела песню про Ленина. И, как она говорила, «как сейчас помню маму, которая с веником вошла в комнату и сказала: я прошу, этих песен в доме не пой». И еще Катя говорила, что она так испугалась…
А я испытала невероятный стыд, представив себя с веником: пришел ребенок с какого-то сбора, и мама ей такое выдала.
Я совершенно определенным образом воспитывала детей, они все видели и слышали, но когда моя дочь сказала, что она не будет вступать в комсомол, я упала в обморок. Не в прямом смысле, но фигурально. Я ей говорила: может, ты вступишь, может, ты не будешь до такой степени… Все вступают, ну и ты. А она не вступила. Это был 80-й год, расцвет застоя, я же действительно боялась – боялась, что она не поступит в институт, что все у нее пойдет не так.
Ко мне приезжали приятели из Волгограда и говорили: почему твои дети все знают? Не надо им все знать. Но у меня был принцип, что должны знать все. Во всяком случае знать, как думают их родители. Негоже нам еще и внутри семьи строить эти можно-нельзя.
Теперь я в этом не уверена.
…Старалась объяснить, что называется, «правду для узкого круга» (когда-то была такая пьеса «Ложь для узкого круга»). Моя лично вина в том, что я исповедовала правду для узкого круга, все это я раскрывала детям, и Кате старалась объяснять, что этого не надо говорить. «Если ты сталкиваешься с идущим поездом, отойди в сторонку».
…Конечно, не надо лгать, но надо было как-то иначе. Я даже не знаю и сейчас, когда у меня уже и внучка, как быть. Есть жизненные принципы, которые я как мать обязана сказать. В остальном – никогда не надо вторгаться в мир, который называется «мир твоего ребенка». Со дня рождения человек – это уже настолько самостоятельная и автономная единица, что чем ты больше туда будешь влезать своими руками и ногами, тем больше можешь навредить. Да, надо сказать, что от спичек бывает пожар, дорогу надо переходить на зеленый свет, врать нехорошо, предательство – это дурно. Это надо вложить, но не быть поводырем по каждому конкретному случаю. Дальше человек должен плыть сам. И мне кажется, что в желании обезопасить собственное дитя, спасти его от возможных мук в будущем я настолько передавила, передозировала свое влияние и свою указующую руку, что в конечном счете она когда-то взбунтовалась. Первый был – бунт с комсомолом, второй – когда она ушла из института, сказав, что не может изучать партийность каталожных библиотечных карточек. Она училась в институте культуры на библиотечном факультете. Это было тоже назло, попытка выстроить свой мир. Она строила его неумело, в желании протеста.