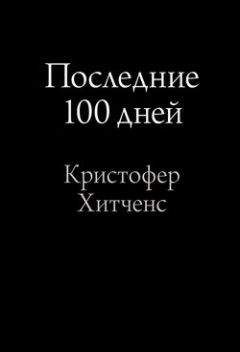Когда я порой просыпаюсь раньше времени от удушья или ночного кошмара, то всегда осознаю всю важность твердого и пунктуального патрулирования передовых границ медицины. Я понимаю ценность того, что в медицинской профессии нет ни малейших отступлений от этого стандарта. Руководителям знаменитой больницы должно быть стыдно за ту роль, какую их орден[125] сыграл в легализации и применении пыток. У меня есть право, даже долг, в той же степени стыдиться официальной политики пыток, принятой правительством страны, документы о гражданстве которой я лишь недавно получил.
«Помни, ты тоже смертен!» — вот какая мысль приходит мне каждый раз, когда ситуация начинает выравниваться. Два моих главных достояния — моя ручка и мой голос, — а теперь еще и пищевод. Я привык жечь свечу с обеих сторон и теперь оказался «в лагере больных». «Обычная маленькая опухоль» больше не вызывала сомнений. Этот «чужой» не может ничего хотеть: если он убьет меня, то умрет, но, судя по всему, существо это упертое и твердо стремящееся к своей цели. Впрочем, здесь нет никакой иронии. Нужно постараться не преисполниться жалости к себе и не превратиться в эгоиста.
Я всегда гордился своим здравым смыслом и стоическим материализмом. Ситуация изменилась. Все стало по-другому: не у меня есть тело, а я есть тело. И все же я сознательно и постоянно веду себя, словно это не так, словно для меня сделано исключение. Охрип и устал во время турне? Загляну к врачу, когда программа будет завершена!
Без всякого труда скинул четырнадцать фунтов. Наконец-то стал стройным. Но не чувствую себя легче, потому что поход к холодильнику напоминает марш-бросок при полной выкладке. И этот чудовищный псориаз, высыпания экземы, с которыми неспособен справиться ни один врач. Судя по всему, я принимаю какой-то нечеловеческий яд. А снотворные… Впрочем, все снотворные и успокаивающие теперь кажутся пустой тратой жизни — в будущем у меня будет масса времени, проведенного без сознания.
Милые люди с кислородным баллоном и каталкой и машина скорой помощи быстро и эффективно переправили меня через границу страны здоровых в совершенно иной мир.
«Чужой» роет свои ходы во мне даже сейчас, когда я пишу едкие слова о моей преждевременно объявленной смерти.
Я получил столько соболезнований, что, похоже, слухи о моей ЖИЗНИ оказались существенно преувеличенными. Я дожил до момента, когда смог прочесть многое из того, что пишут обо мне. Это вдохновляет, но в то же время и пугает — ведь я понимаю, что очень скоро все эти слова станут правдой.
Джулиан Барнс[126] о Джоне Даймонде[127]…
«На последнем дыхании»… Сиберг / Бельмондо[128]. Забавно, как легко и смело люди пользуются подобными выражениями… В Логане [аэропорт] — не могу дышать! Следующая остановка — последняя.
Трагедия? Неверное слово: Гегель против древних греков[129].
Утро биопсии. Проснулся и сказал себе, что сегодня — последний день моей старой жизни.
Никакого больше притворства, никакой юности. С этого момента приходит тяжелое осознание.
Рисунок на страницах некрологов в New Yorker… Вспомнить даты смерти Оруэлла[130], Уайльда[131] и т. д. Возможно, Ивлина Во[132]…
Удивительно, как держатся сердце, легкие и печень: чем хуже я себя чувствую, тем здоровее они становятся.
МОЛИТВА: Интересные противоречия вижу я в поведении тех, кто предлагает молиться за меня. Мне слишком легко воспользоваться Паскалевой уловкой и перебраться на верную чашу весов: какой бог устоит перед такими мольбами? То же самое: те, кто говорит, что болезнь послана мне в наказание, считают, что бог не может придумать лучшей мести отъявленному курильщику, чем рак.
Волоски в носу выпали: постоянный насморк. Запоры и поносы чередуются…
«Прежний порядок меняется, уступая место новому. Полагаю, Господь явит себя по-разному и очень скоро. Меня пожрет какая-то вульгарная маленькая опухоль…»
Несколько лет назад британскому журналисту Джону Даймонду был поставлен диагноз «рак». Свою болезнь он превратил в еженедельную колонку. Он сумел сохранить тот же дерзкий тон, что и раньше. Он честно признался в трусости и панике, но рассказал и о любопытстве, и о собственной смелости. Его рассказ казался абсолютно достоверным: именно так живут с раком. Болезнь не делает тебя другим человеком и не мешает ссориться с женой. Как и многие читатели, я привык читать его колонку из недели в неделю. Но через год с небольшим… наши ожидания неизбежно сбылись. Чудесное исцеление! Я вас дурачил! Нет, подобная концовка не сработала бы. Даймонд должен был умереть; и он должным образом, совершенно правильно (в повествовательном смысле) умер. Хотя — как я мог это упустить? — суровый литературный критик мог бы упрекнуть его в том, что завершению его истории недоставало компактности…[133]
Некоторые соболезнования совершенно неумышленно кажутся финальными — либо из-за использованного прошедшего времени, либо по каким-то другим особенностям прощальных речей. Присланные цветы далеко не всегда радуют.
Я не веду борьбу с раком — это он борется со мной.
Смелость? Глупость! Приберегите это качество для борьбы, от которой невозможно уклониться.
СолБеллоу: «Смерть — это амальгама, без которой мы ничего не увидели бы в зеркале».
Головокружительное ощущение прыжка во времени: меня катапультировали прямо к финишной черте. Пытаться не думать о моей опухоли — означает не думать вовсе. Люди пытаются вести себя так, словно это всего лишь ЭПИЗОД из жизни.
ОНКОЛОГИЯ/ОНТОЛОГИЯ: По твердым религиозным убеждениям, небеса просто приговаривают человека к длительным мучениям, а затем к казни. Монтень: «Ничто не влекло людей к нашей религии более, чем заложенное в ней презрение к жизни».
Страх ведет к суевериям — Господин Рак, впрочем, не нуждается в жертвоприношениях. И я рад, что никто не станет уничтожать животных редких видов во имя моего спасения.
Когда я говорю что-то объективное и стоическое, то все довольны. Ян заметил, что наступит время, когда мне придется уйти. Кэрол спросила меня о свадьбе Ребекки: «Ты боишься, что больше никогда не увидишь Англию?»
Самые обычные выражения приобретают иной смысл. «Срок действия», например… Переживу ли я свою карточку American Express? Или водительские права? Люди говорят: «В пятницу я буду в городе. Ты еще задержишься?» КАКОВ ВОПРОС!
СТЫНУЩИЕ НОГИ (пока что только по ночам): «периферическая нейропатия» — еще одно слово типа «некротический», которое описывает победу смерти над жизнью организма.
И ты худеешь, но раку неинтересно поедать твой жир. Ему нужны твои мышцы. Диета Туморвилля никому еще не пошла на пользу.
Хуже всего — «химио-мозг». Тупой, оцепеневший.
Что если долгие, изощренные пытки — это всего лишь прелюдия к чудовищной казни?
Тело из надежного друга превращается в безразличного чужака, а потом в злобного врага… Пруст?[134]
Если я приму веру, то вот почему: пусть лучше умрет верующий, чем атеист.
Нет даже погони за лекарством…
Бюрократия — вот проклятие Туморвилля.
Как печально видеть себя на старых видеозаписях или в YouTube…
«Постепенное разоблачение» все еще для меня не проблема.
Книга Майкла Корды «Человек к человеку»…[135]
Настолько привыкаешь к дурным новостям, что хорошие новости — это все равно что Брейтенбах[136] и торт. Печально говорить, но теперь мне по крайней мере не придется делать ЭТО.
Ларкин отлично пишет о страхе в своем «Утре». Он восхваляет Юма[137] и Лукреция[138] за их стоицизм. Довольно справедливо: атеистам не нужны соболезнования и молитвы.
Банальность рака. Полный джентльменский набор побочных эффектов. Блюдо дня.
Посмотреть стихотворение Шимборской о пытке и теле как вместилище боли[139].
Из любопытного романа Алана Лайтмана «Сны Эйнштейна» 1993 г. Действие разворачивается в Берне в 1905 г.: «Вместе с бесконечной жизнью возникает и бесконечный список родственников. Дедушки и бабушки никогда не умирают. Прадеды тоже… И бесконечные тетушки… И так далее во многих поколениях. Все живы, и все дают советы. Сыновьям никогда не выбраться из тени своих отцов. Дочерям не избавиться от влияния матерей. Никто не сможет стать самим собой… Такова цена бессмертия. Человек не может стать цельным. Не может стать свободным».
Подражать моему мужу на сцене было совершенно невозможно.
Если вы хоть раз видели его выступающим, то, возможно, и не разделили оценки Ричарда Докинза[140], сказавшего, что «он был величайшим оратором нашего времени». Но вы, несомненно, поймете, что я хочу сказать. Или по крайней мере не подумаете: «Ну а что еще может сказать жена?»