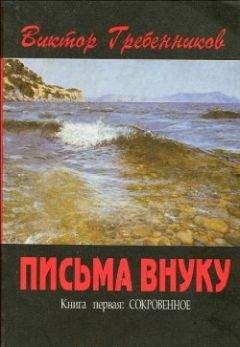Провоцировать эту зрительно-слуховую галлюцинацию могли самые обыкновенные мыши, которые у нас частенько скреблись под полом.
А я рос, активно знакомился с Миром — через книги, школу, через наш зеленый Двор с его большой и малой живностью, и уже стал заправским "юным энтомологом" и убежденным материалистом. Но все равно перед тем, как зайти в темную комнату, меня охватывало очень нехорошее чувство, вернее предчувствие чего-то неизвестного. Дверь в темную комнату будто бы становилась дверью в неведомый, чуждый — и враждебный мир, вступать в который было небезопасно. Этот мир нельзя было ни видеть, ни осязать, ни измерять; там становились бесполезными все органы чувств. Глаза напряженно вглядывались в темноту, руки беспомощно шарили в кромешном мраке, натыкаясь на незнакомые предметы. Это грозило потерей ориентировки, сулившей нечто совсем страшное: если заблудишься в темноте, поддавшись минутному испугу, то не найдешь в панике и двери, через которую вошел в комнату из темной прихожей.
Но я знал: стоит сделать над собою усилие, хорошенько внушив себе самому, что ничего страшного в комнате нет и быть не может, храбро туда войти, взять там какой-нибудь заранее задуманный предмет и выйти неторопливо — как все страхи снимет как рукой. Причем выходить именно не торопясь — паническое бегство, совершенное даже в самом конце такой храброй вылазки, может не только испортить все дело, а вдобавок изукрасить лоб шишкой, если дверь не удастся найти сразу.
Одолеть же этот страх было просто необходимо. Во-первых, было стыдно за себя: такой большой, а все еще боюсь темноты, во-вторых мрак этот странным образом притягивал к себе: в моем представлении темная комната, если только ее не бояться, может обернуться новым, не познанным еще, интересным миром, быть может чем-то похожим на глубокие подземелья в старинных замках, на неведомые пещеры. И это нужно было во что бы то ни стало проверить.
Вот потому однажды я набрался духу, вышел в темную прихожую, плотно прикрыв за собой дверь, нащупал рукою дверь, ведущую в небольшую, давно не обитаемую комнату (на уже упомянутом плане — та, что к улице, средняя между большой комнатой и коридором), где стояли шкафы со старыми ненужными книгами, лишними стульями, кроватью, на которой никто никогда не спал (на ней лежали горы журналов), а ставни не открывались даже днем. Отогнав все мысли о страхе, я распахнул дверь и смело вошел внутрь.
Выходя из темной комнаты, я случайно глянул на горящую лампу, и теперь в глазах мелькала светлая цепочка, каждое из звеньев которой воспроизводило пламя двадцатипятилинейной лампы, похожее на корону. Вереница этих корон плыла в темноте, то медленно спускаясь вниз, то взвиваясь вверх или в сторону, следуя за моим взглядом, скользящим по темному пространству. Я знал: это следы от яркого пламени, оставшиеся на некоторое время где-то в моих глазах, и это было совсем не страшно.
Но можно было, почти не напрягая воображения, изменить эту комнату, и она как бы делалась невообразимо огромной, причем уставленная не простыми шкафами и стульями, а какой-то диковинной, высокой мебелью. Миг — ив комнате вырастал дивный сад, со стройными рядами пальм вдоль стен, со свисающими с высоких потолков гирляндами вьющихся растений. Я тянулся рукой к ближайшим листьям, но вместо мягкого их прикосновения пальцы неожиданно натыкались на твердую шершавую стену, и видение вмиг исчезало. И.это было тоже нисколько не страшно.
Я вышел из комнаты спокойно и неторопливо, несказанно довольный собой. Еще бы — ведь это была настоящая победа: преодолеть боязнь темноты. Но мало того — я стал волшебником!
С тех пор вечерами я не раз заглядывал туда. Плотно закрыв за собою дверь, выбирал наощупь один из стульев, садился и начинал "колдовать". Я вновь и вновь раздвигал стены своей волшебной комнаты, и из мрака, почти осязаемые, возникали ряды стройных, прозрачных колонн, а с невидимых потолков свисали какие-то ажурные украшения очень сложной формы. Стоило лишь слегка "переключить" воображение, как передо мной возникал длинный коридор, обе стены которого были увешаны картинами. Или вновь появлялся волшебный сад, только уже другой, с растениями, увешанными гроздьями невиданных плодов, с многочисленными фонтанами, из которых безо всякого звука и движения струилась вода…
Видение не проходило, даже когда я закрывал глаза, и потому я сознавал, что образы эти рождены моим воображением. Но даже воображение делалось бессильным, и чудесные картины не приходили ко мне, когда я пробовал закрывать глаза, находясь в той комнате, где горел свет, или там, где кроме меня был кто-нибудь еще: нужна была тишина, темнота и уединение.
Вроде бы смешно сейчас об этом вспоминать, но совершенно точно, что минуты, проведенные тогда в темной комнате, в заметной мере обогатили мои чувства и развили воображение. И уж, конечно, была от этого и более осязаемая польза — я переборол опасно затягивающуюся боязнь темноты — отголосок слепого инстинкта далеких предков, которых спасало от диких зверей темными тревожными ночами лишь пламя первобытного костра…
Переболел я почти всеми детскими болезнями тех времен, кроме своих постоянных рахита и туберкулеза (ну и, получается, невроза): корью, дифтерией, скарлатиной, свинкой, инфлюэнцами (так называли тогда гриппы), ангинами, насморками самых различных "вариаций", из-за которых практически не дышал носом, а лишь ртом, отитами со страшными болями в ухе и еще бог знает чем. Еще раз спасибо тем, кто в эти противные туманно-жаркие дни болезней приходил ко мне, рассказывая и показывая уроки. И еще очень болели зубы, один за другим…
Чем болели в то время в южно-российских городах другие люди?
Очень обычным, даже расхожим, было например выражение "опух с голоду" — оно говорит само за себя. Ярко выделялись своими густо-лиловыми физиономиями алкоголики, хотя тогда их было много меньше нынешнего. Распространена была вшивость (педикулез): никто не удивлялся тому, что, скажем, пейсы — длинные локоны на висках молодого щеголя — были густо усеяны ярко-белыми пупырышками гнид — вшиных яиц и их оболочек, намертво приклеенных насекомыми к волосам; обыденными были картины вычесывания вечером на крылечке вшей из волос своего чада (или братишки, или сестренки) частым гребнем, или "искания в голове", которая уютно лежит на коленях ищущего, и найденные насекомые, давимые меж ногтей, издают жирный щелчок. Дети нередко страдали из-за недостатка витаминов от золотухи: кожа на их головах покрывалась рыжими обсыпающимися струпьями и проплешинами; когда же золотушный был еще и вшив, да еще страдал и стригущим лишаем, на голове получались разнокалиберные корки колтуна, которые не брал уже никакой гребень. Не были редкостью и глисты — вышедшие из кишечника здоровенные остроносые, медленно шевелящиеся аскариды. Мой рахит был болезнью редкою, равно как и мамина "дворянская болезнь" — подагра: основания больших пальцев на ногах разрослись, уводя палец в сторону меньших его собратьев. Зато в городе довольно много было горбунов, лилипутов и кретинов (малый рост, но огромная голова при резко укороченных конечностях), а также припадочных. Впрочем, на все это было принято не обращать внимания, не упоминать в разговорах и бумагах. И еще: к началу войны количество всех этих "страждущих, сирых, убогих" резко снизилось от стремительного повышения уровня жизни в результате всеобщего упоенного труда, развития образования, спорта и многих других благ, которых человечий социум в состоянии (да и обязан!) быстро создать себе после навязанных ему обнищаний и разрух.